Медитация как форма неопосредствованного познания
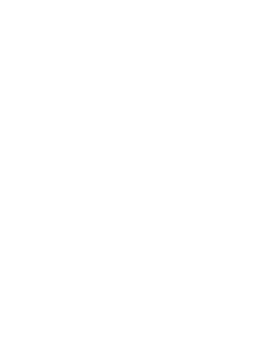
В. Ф. Петренко, В. В. Кучеренко Научные издания
В.Ф. Петренко, В. В. Кучеренко, журнал «Вопросы философии» (ISSN 0042−8744), 2008 год, № 8, с. 83−101
Задача настоящей статьи — оживить интерес отечественных психологов и философов к медитативным практикам буддизма и индуизма. Эти практики, на наш взгляд, дают бесценный опыт соприкосновения с беспредельным, а учения, связанные с ними, являют собой неисчерпаемый кладезь психологических знаний. Западные психологи, начиная с К.Г. Юнга и включая лидеров трансперсональной психологии — С. Грофа, А. Минделла, К. Уилбера, Р. Уолша, — уже соприкоснулись с бездонной глубиной этих учений и многое заимствовали в собственные практики и психотехники1. В отечественной психологии также имеются яркие исследователи, работающие резонансно буддийскими практиками2. В смежных с психологией областях изучения культуры и истории существует глубокая традиция русской школы буддологии, представленная трудами С.Ф. Ольденбурга, О.О. Розенберга, Ф.И. Щербатского, Н.В. Абаева, Г.М. Бонгард-Левина, Б.Д. Дандарона, А.М.. Пятигорского, Г.Ц. Цыбикова, и продолженная в работах Института Востоковедения РАН, Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН, Института этнологии и антропологии РАН, Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, Санкт-Петербургского университета3.
Настоящая статья не является систематическим исследованием конкретной психологической проблемы в рамках философии буддизма. Не является она и неким справочником или глоссарием, переводящим понятия буддистской ментальности на язык современной психологии. Не является она даже рефератом прочитанных нами книг по философии и психологии буддизма. Скорее всего, жанр статьи можно охарактеризовать как отклик сознания психологов начала XXI в. на пережитый опыт постижения буддийской ментальности, наложившийся на наш внутренний опыт работы в измененных состояниях сознания. Этот опыт постижения буддийской ментальности включает как опыт общения с буддийскими ламами, который мы приобрели в ходе экспедиции членов нашей лаборатории «Психология общения и психосемантика» факультета психологии МГУ в 2006—2007 гг. по дацанам Бурятии и Тувы4, так и знания, почерпнутые из канонических текстов буддизма — сутр и шастр — и из чтения современной научной литературы, посвященной философии и психологии буддизма.
Настоящая статья посвящена описанию и анализу общности ряда буддийских медитативных практик и современных психотерапевтических методик, связанных с работой с образами. Эти психотехники, возникшие в разные эпохи в буддийской и христианской культурах, имеют, на наш взгляд, схожие психологические механизмы и близкую феноменологию, что мы и стремимся показать в этой публикации.
Наш текст, где буддийские притчи перемежаются со случаями и примерами современной психотерапии, а буддийская терминология соседствует с христианскими понятиями, может показаться эклектичным. Но мы выбрали такой стиль изложения, чтобы сетью ассоциативных связей и установлением аналогий показать, что за разнообразием культурных явлений скрывается ряд единых стержневых психологических феноменов, которые может успешно исследовать психологическая наука. Скромные шаги в этом направлении и призвана совершить настоящая публикация. Она посвящена практике работы с образами и изменению базовых смысловых установок человека в ходе медитации и гипнотерапии.
Истоки медитативных практик восходят к древней ведической культуре Индии. Но наиболее глубокое развитие они получили в буддизме и индуизме. Для отвлечения от суеты бренного мира (сансары) и от страдания, вызванного привязанностью к нему, а также для дисциплинирования ума и концентрации внимания на трансцендентальных объектах буддисты разработали множество практик работы с сознанием и его измененными формами, а также ввели понятия, описывающие эти формы. Сознание индийские мыслители трактовали широко, относя к нему и восприятие, и мышление, и память. В этом плане, хотя историки науки относят возникновение психологии к XIX в. и связывают его с появлением первой психологической лаборатории В. Вундта, эта дата касается только возникновения экспериментальной, сциентистско-позитивистской ветви психологии. Эмпирическое же изучение сознания и его измененных состояний, широкое использование психотехник существовали в индуизме и практике йогов, а предположительно, начиная с V-IV вв. до н.э. — и в буддизме. Эти практики и их «теоретическая часть» тщательно описывались в сутрах (текстах, пересказанных со слов Будды его ближайшими учениками)5 и шастрах (этико-философских трактатах). В этих текстах, как правило, также поименно фиксировалась и цепочка передачи знания, так как практики осваивались под руководством учителя, и важна была прямая линия преемственности от авторитетного учителя, достигшего просветления6. Особенно это касалось «коренных» текстов, т.е. принадлежащих Будде Шакьямуни и его прямым ученикам, великим архатам и бодхисаттвам. Развитие буддийской литературы в основном шло как накопление комментариев на коренные тексты, комментариев на комментарии и т.д.
Изучение психологического наследия буддизма имеет глубокое теоретическое значение, так как основным и даже единственным предметом интереса для буддистов выступала проблема сознания. Понятийный тезаурус буддийского учения, посвященный сознанию, заметно превышает словарь понятий современной психологии. Но не менее важен и психотехнический опыт буддизма, в рамках которого разработаны эффективные методы психотренинга и психической саморегуляции. Можно сказать, что буддизм предельно «практичен» и «прагматичен».
Настоящая статья не является систематическим исследованием конкретной психологической проблемы в рамках философии буддизма. Не является она и неким справочником или глоссарием, переводящим понятия буддистской ментальности на язык современной психологии. Не является она даже рефератом прочитанных нами книг по философии и психологии буддизма. Скорее всего, жанр статьи можно охарактеризовать как отклик сознания психологов начала XXI в. на пережитый опыт постижения буддийской ментальности, наложившийся на наш внутренний опыт работы в измененных состояниях сознания. Этот опыт постижения буддийской ментальности включает как опыт общения с буддийскими ламами, который мы приобрели в ходе экспедиции членов нашей лаборатории «Психология общения и психосемантика» факультета психологии МГУ в 2006—2007 гг. по дацанам Бурятии и Тувы4, так и знания, почерпнутые из канонических текстов буддизма — сутр и шастр — и из чтения современной научной литературы, посвященной философии и психологии буддизма.
Настоящая статья посвящена описанию и анализу общности ряда буддийских медитативных практик и современных психотерапевтических методик, связанных с работой с образами. Эти психотехники, возникшие в разные эпохи в буддийской и христианской культурах, имеют, на наш взгляд, схожие психологические механизмы и близкую феноменологию, что мы и стремимся показать в этой публикации.
Наш текст, где буддийские притчи перемежаются со случаями и примерами современной психотерапии, а буддийская терминология соседствует с христианскими понятиями, может показаться эклектичным. Но мы выбрали такой стиль изложения, чтобы сетью ассоциативных связей и установлением аналогий показать, что за разнообразием культурных явлений скрывается ряд единых стержневых психологических феноменов, которые может успешно исследовать психологическая наука. Скромные шаги в этом направлении и призвана совершить настоящая публикация. Она посвящена практике работы с образами и изменению базовых смысловых установок человека в ходе медитации и гипнотерапии.
Истоки медитативных практик восходят к древней ведической культуре Индии. Но наиболее глубокое развитие они получили в буддизме и индуизме. Для отвлечения от суеты бренного мира (сансары) и от страдания, вызванного привязанностью к нему, а также для дисциплинирования ума и концентрации внимания на трансцендентальных объектах буддисты разработали множество практик работы с сознанием и его измененными формами, а также ввели понятия, описывающие эти формы. Сознание индийские мыслители трактовали широко, относя к нему и восприятие, и мышление, и память. В этом плане, хотя историки науки относят возникновение психологии к XIX в. и связывают его с появлением первой психологической лаборатории В. Вундта, эта дата касается только возникновения экспериментальной, сциентистско-позитивистской ветви психологии. Эмпирическое же изучение сознания и его измененных состояний, широкое использование психотехник существовали в индуизме и практике йогов, а предположительно, начиная с V-IV вв. до н.э. — и в буддизме. Эти практики и их «теоретическая часть» тщательно описывались в сутрах (текстах, пересказанных со слов Будды его ближайшими учениками)5 и шастрах (этико-философских трактатах). В этих текстах, как правило, также поименно фиксировалась и цепочка передачи знания, так как практики осваивались под руководством учителя, и важна была прямая линия преемственности от авторитетного учителя, достигшего просветления6. Особенно это касалось «коренных» текстов, т.е. принадлежащих Будде Шакьямуни и его прямым ученикам, великим архатам и бодхисаттвам. Развитие буддийской литературы в основном шло как накопление комментариев на коренные тексты, комментариев на комментарии и т.д.
Изучение психологического наследия буддизма имеет глубокое теоретическое значение, так как основным и даже единственным предметом интереса для буддистов выступала проблема сознания. Понятийный тезаурус буддийского учения, посвященный сознанию, заметно превышает словарь понятий современной психологии. Но не менее важен и психотехнический опыт буддизма, в рамках которого разработаны эффективные методы психотренинга и психической саморегуляции. Можно сказать, что буддизм предельно «практичен» и «прагматичен».
Буддизм утверждает, что каждый человек в потенции способен перейти от состояния страдания к состоянию полной безмятежности, высшего покоя, глубокой мудрости, причем путем собственных волевых усилий и практических действий. Поэтому центральное место в буддийской концепции спасения от мирских заблуждений и страданий заняло учение о достижении состояния «просветления» или «пробуждения», которое стало высшей сотерологической целью всех буддийских школ. А это обусловило важное значение в буддизме не только «теории» достижения «просветленного» состояния, но и практических методов изменения исходного морально-психологического состояния человека.
[Абаев, 1991, 5]
То, что ставили в качестве сверхзадачи отечественные психологи в начале революционного двадцатого века — а именно, формирование «нового человека», — с иными целями осуществляли буддийские учителя два с половиной тысячелетия назад. Так что основателем психологии как экспериментально-эмпирической науки о сознании можно считать Будду Шакьямуни, тем самым сдвинув сроки возникновения психологии на две с половиной тысячи лет назад — хотя, конечно, истоки медитативных практик уходят в еще более древнее прошлое, см. [Андросов 2001].
Будда — это тот, кто достиг просветления и пребывает в состоянии нирваны7. Психологически нирвана — особое измененное состояние сознания, характеризующее внутренним покоем, снятием двойственности (выделения себя из мира), ощущением интеграции с бесконечным космосом и переживанием единства со всем миром живой и неживой природы. Достигший просветления, Будда, находясь в этом состоянии недвойственности, отказался от любой категоризации, сохраняя «благородное молчание».
Использование измененных форм сознания и, как следствие этого, накопление опыта работы с состояниями сознания присущи не только буддизму, но и другим религиям. Измененные состояния сознания достигаются различными психотехниками: от поста, медитации и молитвы, сенсорной депривации (затворничество) — до динамических медитаций, таких как чтение мантр, нанесенных на вращающийся молитвенный барабан у буддистов; круговые движения танца дервишей в суфизме; ритмическое раскачивание молящихся иудаистов, танцы шамана и ритуальные пляски африканцев, экстаз вакханалий древних римлян и ритуальный секс тантристов в Индии. В Новое время в рамках европейской науки линию преемственности работы с измененными состояниями сознания можно провести от Парацельса, Ф.А. Месмера, аббата Фария, М. Брэда, маркиза де Пюисегюра, Ж. Шарко, Г. Бернгейма, В.М. Бехтерева к так называемому эриксонианскому гипнозу [Эриксон, 2006].
В классическом гипнозе монотонность звучания речи гипнотизера (суггестора), фиксация глаз пациента на зрительный раздражитель (или на зрачки самого суггестора) вызывают, в силу монотонии и утомления рецепторов, торможение второй сигнальной системы (в терминах И. П. Павлова) и впадение в гипнотическое состояние. Эриксонианский гипноз основан на работе с представлениями или, как их еще называют, вторичными образами, т.е. образами объектов, не наблюдаемых непосредственно, а вызываемых силой воображения. В отличие от классического гипноза, эриксонианский связан с внутренней или внешней активностью пациента (типологическая феноменология образов дается в работе [Гостев 1998]). Можно проиллюстрировать работу со вторичными образами на примере введения пациента в трансовое состояние в эриксонианском стиле. Пациента просят представить нечто хорошо знакомое, например его собственную комнату, и описать расположение мебели, цвет обоев, штор. Внимание пациента, таким образом, переключается с внешних объектов восприятия на внутренние представления, вызываемые силой воспоминания и воображения. Так актуализируются вторичные (или ментальные) зрительные образы. Выполняя инструкцию суггестора, пациент в своем воображении как бы отключается от наличной ситуации, и требуется лишь незначительный толчок, чтобы полностью перевести его внимание в воображаемый (иллюзорный) мир. Например, ему говорится: А сейчас уже близится вечер, свет в комнате тускнеет, вы зажигаете свечу (вновь вводимый иллюзорный объект) и видите на стене колеблющиеся тени от предметов. Т.е. в его воображении оказываются присутствующими не только образы, извлеченные из памяти, но и созданные воображением. Пациент все глубже погружается в иллюзорную реальность. Далее используется прием, который Эриксон назвал «точкой сопряжения модальностей»: он позволяет дополнить зрительный образ слуховыми и кинестетическими компонентами. Например, расспрашивая пациента о наличии в его комнате настольных или настенных часов, суггестор обращает его внимание на звуки работы часового механизма. Пациент начинает «слышать» тиканье часов. Тут же, глядя, как «качаются» при движении воздуха шторы, испытуемый начинает чувствовать прохладу ветерка с улицы, а «выглянув» в окно на дорогу, где проезжают машины, испытуемый «слышит» их шум и «вдыхает» запахи улицы. Такая форма введения в трансовое состояние у опытного суггестора может быть вплетена в обычный разговор и плохо рефлексируется пациентом.
Отметим, что трансовые состояния не представляют чего-то экстраординарного в нашей жизни. Увлекательный просмотр художественного фильма, когда мы идентифицируем себя с героями, также дает пример трансового состояния. От эриксонианского гипноза оно отличается только глубиной включенности.
Но вернемся к буддизму. Близость приемов западной психотерапии к буддийской психопрактике отмечал К.Г. Юнг, признавая, что его путь постижения мира буддийской мысли лежал не в направлении изучения истории религии или философии. К знакомству со взглядами и методами Будды, этого великого учителя человечества, побуждаемого чувством сострадания к людям, обреченным на старость, болезни и смерть, привел меня профессиональный интерес врача, долг которого — облегчить страдания человека (цит. по [Альбедиль 2006, 30]).
Несмотря на то что опыт пребывания в измененных состояниях сознания присущ практически всем религиям, сознательная и целенаправленная активность по произвольному вхождению в трансовое состояние через медитацию, через ретрит8, через дыхательные практики и йоговские асаны в наибольшей мере присуща именно соцветию индийских религий: брахманизму, индуизму, джайнизму и, конечно, буддизму, имеющему также ряд ветвей (хинаяна, махаяна, ваджраяна) и множество школ и направлений.
Буддийские тексты содержат подробное описание медитативных методик, которые могут быть сведены к двум основным направлениям [Квантипалло 2005]: 1) шаматха, путь безмятежности и спокойствия; 2) випашьяна, путь прозрения, мудрости, интуитивного созерцания.
Шаматха достигается концентрацией внимания и остановкой цепочки вербальных ассоциаций и мыслей. «Шраддхотпада-шастра» дает следующее описание медитации: Если кто-то хочет практиковать шаматху, он должен обитать в спокойном месте, сидеть прямо, упорядочив мысли9. Его внимание не должно задерживаться на том, что он видит, слышит, ощущает или знает. Все мысли, как только они возникают, должны быть отброшены, и даже сама мысль об искоренении мыслей тоже должна быть изгнана [Абаев 1991, 25]. Другие техники успокоения мыслей связаны с сужением сознания, фиксацией его не на понятийных формах, а на непосредственных ощущениях, поступающих от органов чувств. Примеры — практика многодневной фиксации внимания на ходьбе, включающая непрерывное осознание каждого движения, или концентрация внимания на процессе вдоха и выдоха. Всё это ведет к сужению сознания, а затем к переходу к его измененным формам. И. Х. Шэток10 дает описание такой непрерывной концентрации внимания в течение всего курса: При ходьбе нужно удерживать внимание на движении каждой ступни по мере того, как она поднималась, двигалась вперед и опускалась на пол или на землю; каждое из этих действий ходьбы следовало сопровождать повторением в уме слов «вверх», «вперед», «вниз» или «поднять»… Во время каждого из шагов нельзя позволять, чтобы внимание отвлекалось от движения ног. Всякий раз, пройдя нужное расстояние, следовало переместить внимание на то, чтобы остановиться, повернуть и опять начать ходьбу… Всякий раз, когда ум отклоняется от своего объекта, тогда внимание привлечено чем-то внешним, нужно отметить в уме этот факт и мягко, но настойчиво возвратить его к предмету созерцания… Вскоре моя жизнь оказалась подчинена монотонному распорядку — ходьба, сидение, снова ходьба. И в этом процессе произошло то, что неизбежно должно было произойти, — внешний мир стал удаляться из моих сознательных мыслей [Шэток 1994, 33]. Цель буддиста, предпринявшего курс сатипаттхана, — пишет Шэток — заключается в приобретении випашьяны, или прозрения. Только когда ум успокоен, прозрение, или интуиция, может получить доступ к переживаниям, лежащим в основе буддийской доктрины. Они возникают спонтанно в сознании как визуальные образы или как предельно достоверные сюжеты, напоминающие притчи.
В гипнотических сеансах, гораздо более кратковременных, концентрация внимания пациента облегчается помощью суггестора. Практикуется фиксация внимания на тяжести рук, на скованности тела и его последующего «растворения» в пространстве. Концентрация внимания ведет к остановке потока сознания, и пациент, как правило, воспринимает однородно окрашенное пространство, цвет которого, очевидно, определяется эмоциональным состоянием пациента.
В православной практике исихазма [Хоружий 2005] используется практика «трезвления» ума, по сути, медитативная: Для желающих принадлежать самим себе и сделаться подлинно «монахами» (едиными) по внутреннему человеку, обязательно нужно вводить ум внутрь тела и сдерживать его там. Именно поскольку у только что приступивших к борению даже сосредоточенный ум постоянно скачет, и им приходится снова его возвращать, но он ускользает от неопытных, которые еще не знают, что нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их собственный ум, то некоторые советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и немного сдерживать дыхание11 в наблюдении за ним, как бы задерживать дыхание и ум, пока, достигнув с Богом высших ступеней и сделав свой ум неблуждающим и несмешанным, трезвенники не научатся строго сосредоточивать его в «единовидной свернутости» [Палама 2005, 47 — 48]. Палама цитирует Дионисия: После наивысшего восхождения мы соединяемся с невыразимым. Концентрация внимания на сердце молящегося вызывает поток интенсивного белого света, исихасты толкуют его как эманацию божественной энергии («Фаворский свет»).
На фоне восприятия цветового пространства или потока света у медитирующего могут возникать спонтанные переживания в виде движения в энергетических потоках, путешествия в необычные миры, трудно описуемые в естественном языке, и т.п. В гипнотических сеансах это могут быть и спонтанно появляющиеся картины из прошлого пациента, образы величественных мест, переживания себя в образе свободно парящей птицы или мощного животного, или даже сверкающей на солнце капли дождя, скатившейся на зеленый листочек.
В тантрических практиках випашьяны12 медитация обычно направлена на конкретный объект — так называемый йидам. Это мужское или женское просветленное существо, которое визуализирует практикующий. Мантру йидама практикующий непрерывно повторяет с целью идентифицироваться с ним, обрести присущее ему состояние сознания. Идентифицируясь с йидамом, практикующий обретает различные сиддхи — способности, присущие данному божеству, такие как дар ясновидения, врачевания или ментального перемещения в пространстве. В роли йидама может выступать и образ учителя, и будда Амитабха (воплощение мудрости), а также великие бодхисаттвы: Авалокитешвара (воплощение сострадания), Манжджушри (олицетворение запредельного знания), Ваджрапани, Белая и Зеленая Тары13. В тантрическом буддизме медитативные практики сопровождаются мантрами и мудрами.
Мантрами называют звуковые символы, имеющие сакральный смысл [Джампа Тинлэй 1995, 23]. Сами по себе мантры могут не иметь конкретных вербальных значений, но характер звукового паттерна, в силу «звукового символизма», создает некоторый эмоциональный настрой (коннотативное значение). Ритмический повтор и напевность мантр, подобно музыке, создают настроение, возвышают дух медитирующего. Кроме того, длительное повторение одного и того же слога останавливает поток вербального сознания, вербальных ассоциаций и способствует яркой визуализации. На примере мантр стоит отметить существенное различие таких форм измененного состояния сознания, как медитация и молитва14. Мантры («слова» медитации), в ходе многократного повторения, десемантизируются. Ничто не должно потревожить зеркальную гладь медитативного покоя, никакая эмоция не должна вызвать волнение этого вселенского состояния. Как горное чистое озеро, состояние медитации отражает бездонную глубину неба. Сознание человека резонансно безличному Абсолюту.
Мудры — ритуальные символические жесты — имеют символическое значение, резонансное тем или иным состояниям сознания. С нашей точки зрения, мудры выполняют ту же функцию стимула, рефлекторно вызывающего нужную реакцию, что «якоря»15 в нейролингвистическом программировании [Бэндлер, Гриндер 1995]. Но в отличие от «якоря», которым в НЛП может быть любой внешний стимул (прикосновение, звук, поза суггестора), мудры имеют фиксированное, освященное ритуалом, опоэтизированное символическое значение, помогающее достичь высших состояний сознания.
Запахи благовоний активируют сопряженные с «эмоциональным мозгом»16 зоны подкорки; сопровождающая медитацию музыка выводит нас за пределы значения слов и погружает в состояние интуитивного восприятия; ритмические удары барабана и гонга поддерживают высокий уровень внимания, активируя ретикулярную формацию резкими звуковыми стимулами. Всё это способствует выходу сознания из обыденной реальности в его измененные формы [Кучеренко, Петренко, Россохин 1998].
В медитации на йидам медитирующему предлагается божество, выбранное в соответствии с его потребностями и его конкретными духовными способностями. Его просят все свое внимание посвятить форме божества, которое он должен создать в своем разуме. Самые ничтожные детали этого образа во всей его сложности и во всех его цветах визуализируются таким способом, что образ становится таким же реальным, как и сам практикующий. Естественно, практикующий не только созерцает это божество, он отождествляется с ним, как бы являясь этим божеством. В этот момент он преобразуется в божество: архетипическая сущность божества передается ему. Сердцевина визуализации заключается в этом единении с божеством. Речь идет о динамическом процессе, где эго медитирующего, его обычное сознание оставляется и заменяется высшим сознанием божества. В юнгианских терминах можно сказать, что эго индивида было принесено в жертву Самости [Моаканин 2004, 75].
Практикующий может выбирать для визуализации одного или нескольких йидамов. В прошлом великие мастера, исходя из кармической предрасположенности своих учеников, прямо назначали йидама, соответствующего их духовному настрою.
Рассмотрим пример текста, посвященного визуализации йидама:
То, что ставили в качестве сверхзадачи отечественные психологи в начале революционного двадцатого века — а именно, формирование «нового человека», — с иными целями осуществляли буддийские учителя два с половиной тысячелетия назад. Так что основателем психологии как экспериментально-эмпирической науки о сознании можно считать Будду Шакьямуни, тем самым сдвинув сроки возникновения психологии на две с половиной тысячи лет назад — хотя, конечно, истоки медитативных практик уходят в еще более древнее прошлое, см. [Андросов 2001].
Будда — это тот, кто достиг просветления и пребывает в состоянии нирваны7. Психологически нирвана — особое измененное состояние сознания, характеризующее внутренним покоем, снятием двойственности (выделения себя из мира), ощущением интеграции с бесконечным космосом и переживанием единства со всем миром живой и неживой природы. Достигший просветления, Будда, находясь в этом состоянии недвойственности, отказался от любой категоризации, сохраняя «благородное молчание».
Использование измененных форм сознания и, как следствие этого, накопление опыта работы с состояниями сознания присущи не только буддизму, но и другим религиям. Измененные состояния сознания достигаются различными психотехниками: от поста, медитации и молитвы, сенсорной депривации (затворничество) — до динамических медитаций, таких как чтение мантр, нанесенных на вращающийся молитвенный барабан у буддистов; круговые движения танца дервишей в суфизме; ритмическое раскачивание молящихся иудаистов, танцы шамана и ритуальные пляски африканцев, экстаз вакханалий древних римлян и ритуальный секс тантристов в Индии. В Новое время в рамках европейской науки линию преемственности работы с измененными состояниями сознания можно провести от Парацельса, Ф.А. Месмера, аббата Фария, М. Брэда, маркиза де Пюисегюра, Ж. Шарко, Г. Бернгейма, В.М. Бехтерева к так называемому эриксонианскому гипнозу [Эриксон, 2006].
В классическом гипнозе монотонность звучания речи гипнотизера (суггестора), фиксация глаз пациента на зрительный раздражитель (или на зрачки самого суггестора) вызывают, в силу монотонии и утомления рецепторов, торможение второй сигнальной системы (в терминах И. П. Павлова) и впадение в гипнотическое состояние. Эриксонианский гипноз основан на работе с представлениями или, как их еще называют, вторичными образами, т.е. образами объектов, не наблюдаемых непосредственно, а вызываемых силой воображения. В отличие от классического гипноза, эриксонианский связан с внутренней или внешней активностью пациента (типологическая феноменология образов дается в работе [Гостев 1998]). Можно проиллюстрировать работу со вторичными образами на примере введения пациента в трансовое состояние в эриксонианском стиле. Пациента просят представить нечто хорошо знакомое, например его собственную комнату, и описать расположение мебели, цвет обоев, штор. Внимание пациента, таким образом, переключается с внешних объектов восприятия на внутренние представления, вызываемые силой воспоминания и воображения. Так актуализируются вторичные (или ментальные) зрительные образы. Выполняя инструкцию суггестора, пациент в своем воображении как бы отключается от наличной ситуации, и требуется лишь незначительный толчок, чтобы полностью перевести его внимание в воображаемый (иллюзорный) мир. Например, ему говорится: А сейчас уже близится вечер, свет в комнате тускнеет, вы зажигаете свечу (вновь вводимый иллюзорный объект) и видите на стене колеблющиеся тени от предметов. Т.е. в его воображении оказываются присутствующими не только образы, извлеченные из памяти, но и созданные воображением. Пациент все глубже погружается в иллюзорную реальность. Далее используется прием, который Эриксон назвал «точкой сопряжения модальностей»: он позволяет дополнить зрительный образ слуховыми и кинестетическими компонентами. Например, расспрашивая пациента о наличии в его комнате настольных или настенных часов, суггестор обращает его внимание на звуки работы часового механизма. Пациент начинает «слышать» тиканье часов. Тут же, глядя, как «качаются» при движении воздуха шторы, испытуемый начинает чувствовать прохладу ветерка с улицы, а «выглянув» в окно на дорогу, где проезжают машины, испытуемый «слышит» их шум и «вдыхает» запахи улицы. Такая форма введения в трансовое состояние у опытного суггестора может быть вплетена в обычный разговор и плохо рефлексируется пациентом.
Отметим, что трансовые состояния не представляют чего-то экстраординарного в нашей жизни. Увлекательный просмотр художественного фильма, когда мы идентифицируем себя с героями, также дает пример трансового состояния. От эриксонианского гипноза оно отличается только глубиной включенности.
Но вернемся к буддизму. Близость приемов западной психотерапии к буддийской психопрактике отмечал К.Г. Юнг, признавая, что его путь постижения мира буддийской мысли лежал не в направлении изучения истории религии или философии. К знакомству со взглядами и методами Будды, этого великого учителя человечества, побуждаемого чувством сострадания к людям, обреченным на старость, болезни и смерть, привел меня профессиональный интерес врача, долг которого — облегчить страдания человека (цит. по [Альбедиль 2006, 30]).
Несмотря на то что опыт пребывания в измененных состояниях сознания присущ практически всем религиям, сознательная и целенаправленная активность по произвольному вхождению в трансовое состояние через медитацию, через ретрит8, через дыхательные практики и йоговские асаны в наибольшей мере присуща именно соцветию индийских религий: брахманизму, индуизму, джайнизму и, конечно, буддизму, имеющему также ряд ветвей (хинаяна, махаяна, ваджраяна) и множество школ и направлений.
Буддийские тексты содержат подробное описание медитативных методик, которые могут быть сведены к двум основным направлениям [Квантипалло 2005]: 1) шаматха, путь безмятежности и спокойствия; 2) випашьяна, путь прозрения, мудрости, интуитивного созерцания.
Шаматха достигается концентрацией внимания и остановкой цепочки вербальных ассоциаций и мыслей. «Шраддхотпада-шастра» дает следующее описание медитации: Если кто-то хочет практиковать шаматху, он должен обитать в спокойном месте, сидеть прямо, упорядочив мысли9. Его внимание не должно задерживаться на том, что он видит, слышит, ощущает или знает. Все мысли, как только они возникают, должны быть отброшены, и даже сама мысль об искоренении мыслей тоже должна быть изгнана [Абаев 1991, 25]. Другие техники успокоения мыслей связаны с сужением сознания, фиксацией его не на понятийных формах, а на непосредственных ощущениях, поступающих от органов чувств. Примеры — практика многодневной фиксации внимания на ходьбе, включающая непрерывное осознание каждого движения, или концентрация внимания на процессе вдоха и выдоха. Всё это ведет к сужению сознания, а затем к переходу к его измененным формам. И. Х. Шэток10 дает описание такой непрерывной концентрации внимания в течение всего курса: При ходьбе нужно удерживать внимание на движении каждой ступни по мере того, как она поднималась, двигалась вперед и опускалась на пол или на землю; каждое из этих действий ходьбы следовало сопровождать повторением в уме слов «вверх», «вперед», «вниз» или «поднять»… Во время каждого из шагов нельзя позволять, чтобы внимание отвлекалось от движения ног. Всякий раз, пройдя нужное расстояние, следовало переместить внимание на то, чтобы остановиться, повернуть и опять начать ходьбу… Всякий раз, когда ум отклоняется от своего объекта, тогда внимание привлечено чем-то внешним, нужно отметить в уме этот факт и мягко, но настойчиво возвратить его к предмету созерцания… Вскоре моя жизнь оказалась подчинена монотонному распорядку — ходьба, сидение, снова ходьба. И в этом процессе произошло то, что неизбежно должно было произойти, — внешний мир стал удаляться из моих сознательных мыслей [Шэток 1994, 33]. Цель буддиста, предпринявшего курс сатипаттхана, — пишет Шэток — заключается в приобретении випашьяны, или прозрения. Только когда ум успокоен, прозрение, или интуиция, может получить доступ к переживаниям, лежащим в основе буддийской доктрины. Они возникают спонтанно в сознании как визуальные образы или как предельно достоверные сюжеты, напоминающие притчи.
В гипнотических сеансах, гораздо более кратковременных, концентрация внимания пациента облегчается помощью суггестора. Практикуется фиксация внимания на тяжести рук, на скованности тела и его последующего «растворения» в пространстве. Концентрация внимания ведет к остановке потока сознания, и пациент, как правило, воспринимает однородно окрашенное пространство, цвет которого, очевидно, определяется эмоциональным состоянием пациента.
В православной практике исихазма [Хоружий 2005] используется практика «трезвления» ума, по сути, медитативная: Для желающих принадлежать самим себе и сделаться подлинно «монахами» (едиными) по внутреннему человеку, обязательно нужно вводить ум внутрь тела и сдерживать его там. Именно поскольку у только что приступивших к борению даже сосредоточенный ум постоянно скачет, и им приходится снова его возвращать, но он ускользает от неопытных, которые еще не знают, что нет ничего более трудноуловимого и летучего, чем их собственный ум, то некоторые советуют внимательно следить за вдохом и выдохом и немного сдерживать дыхание11 в наблюдении за ним, как бы задерживать дыхание и ум, пока, достигнув с Богом высших ступеней и сделав свой ум неблуждающим и несмешанным, трезвенники не научатся строго сосредоточивать его в «единовидной свернутости» [Палама 2005, 47 — 48]. Палама цитирует Дионисия: После наивысшего восхождения мы соединяемся с невыразимым. Концентрация внимания на сердце молящегося вызывает поток интенсивного белого света, исихасты толкуют его как эманацию божественной энергии («Фаворский свет»).
На фоне восприятия цветового пространства или потока света у медитирующего могут возникать спонтанные переживания в виде движения в энергетических потоках, путешествия в необычные миры, трудно описуемые в естественном языке, и т.п. В гипнотических сеансах это могут быть и спонтанно появляющиеся картины из прошлого пациента, образы величественных мест, переживания себя в образе свободно парящей птицы или мощного животного, или даже сверкающей на солнце капли дождя, скатившейся на зеленый листочек.
В тантрических практиках випашьяны12 медитация обычно направлена на конкретный объект — так называемый йидам. Это мужское или женское просветленное существо, которое визуализирует практикующий. Мантру йидама практикующий непрерывно повторяет с целью идентифицироваться с ним, обрести присущее ему состояние сознания. Идентифицируясь с йидамом, практикующий обретает различные сиддхи — способности, присущие данному божеству, такие как дар ясновидения, врачевания или ментального перемещения в пространстве. В роли йидама может выступать и образ учителя, и будда Амитабха (воплощение мудрости), а также великие бодхисаттвы: Авалокитешвара (воплощение сострадания), Манжджушри (олицетворение запредельного знания), Ваджрапани, Белая и Зеленая Тары13. В тантрическом буддизме медитативные практики сопровождаются мантрами и мудрами.
Мантрами называют звуковые символы, имеющие сакральный смысл [Джампа Тинлэй 1995, 23]. Сами по себе мантры могут не иметь конкретных вербальных значений, но характер звукового паттерна, в силу «звукового символизма», создает некоторый эмоциональный настрой (коннотативное значение). Ритмический повтор и напевность мантр, подобно музыке, создают настроение, возвышают дух медитирующего. Кроме того, длительное повторение одного и того же слога останавливает поток вербального сознания, вербальных ассоциаций и способствует яркой визуализации. На примере мантр стоит отметить существенное различие таких форм измененного состояния сознания, как медитация и молитва14. Мантры («слова» медитации), в ходе многократного повторения, десемантизируются. Ничто не должно потревожить зеркальную гладь медитативного покоя, никакая эмоция не должна вызвать волнение этого вселенского состояния. Как горное чистое озеро, состояние медитации отражает бездонную глубину неба. Сознание человека резонансно безличному Абсолюту.
Мудры — ритуальные символические жесты — имеют символическое значение, резонансное тем или иным состояниям сознания. С нашей точки зрения, мудры выполняют ту же функцию стимула, рефлекторно вызывающего нужную реакцию, что «якоря»15 в нейролингвистическом программировании [Бэндлер, Гриндер 1995]. Но в отличие от «якоря», которым в НЛП может быть любой внешний стимул (прикосновение, звук, поза суггестора), мудры имеют фиксированное, освященное ритуалом, опоэтизированное символическое значение, помогающее достичь высших состояний сознания.
Запахи благовоний активируют сопряженные с «эмоциональным мозгом»16 зоны подкорки; сопровождающая медитацию музыка выводит нас за пределы значения слов и погружает в состояние интуитивного восприятия; ритмические удары барабана и гонга поддерживают высокий уровень внимания, активируя ретикулярную формацию резкими звуковыми стимулами. Всё это способствует выходу сознания из обыденной реальности в его измененные формы [Кучеренко, Петренко, Россохин 1998].
В медитации на йидам медитирующему предлагается божество, выбранное в соответствии с его потребностями и его конкретными духовными способностями. Его просят все свое внимание посвятить форме божества, которое он должен создать в своем разуме. Самые ничтожные детали этого образа во всей его сложности и во всех его цветах визуализируются таким способом, что образ становится таким же реальным, как и сам практикующий. Естественно, практикующий не только созерцает это божество, он отождествляется с ним, как бы являясь этим божеством. В этот момент он преобразуется в божество: архетипическая сущность божества передается ему. Сердцевина визуализации заключается в этом единении с божеством. Речь идет о динамическом процессе, где эго медитирующего, его обычное сознание оставляется и заменяется высшим сознанием божества. В юнгианских терминах можно сказать, что эго индивида было принесено в жертву Самости [Моаканин 2004, 75].
Практикующий может выбирать для визуализации одного или нескольких йидамов. В прошлом великие мастера, исходя из кармической предрасположенности своих учеников, прямо назначали йидама, соответствующего их духовному настрою.
Рассмотрим пример текста, посвященного визуализации йидама:
Визуализируйте Амитабху, Будду Безграничного Света, восседающего над макушкой вашей головы, а вокруг себя представьте всех живых существ, в частности, справа от себя собственного отца, а слева — мать. Затем вообразите вокруг себя своих друзей, семью, врагов и всех остальных живых существ шести миров, и над головой каждого из них — Будду. Во время повторения шестислоговой мантры, подобный молоку нектар истекает из сердца Будды Амитабхи, постепенно проникая через макушку головы и полностью наполняя ваше тело. Тогда все омрачения и злодеяния начинают покидать ваше тело. В точности как содержимое сосуда просачивается через отверстие в его дне, все ваши проступки и омрачения в виде жидкой сажи вытекают через ваши нижние отверстия и ступни ног. Земля под вами разверзается, и потоки сажи стекают вниз, где их поглощает Яма, Владыка Смерти. Представьте, что удовлетворили и насытили его, в результате чего отплатили свои кармические долги посредством этой практики. Затем представляйте, что вы очистились от всех неблагих деяний и омрачений, тревожащих эмоций, двойственного восприятия и привычных склонностей. Ваше тело становится безупречным, ослепительным и блистающим как хрустальный шар. Произнося молитвы и мантры вновь и вновь, представляете, как Будда Амитабха растворяется в свете. Его светоносные формы уже подобны радуге, но в этот момент он растворяется и сливается с вами, так что вы становитесь неотделимыми от Амитабхи. Его просветленное Тело сливается с вашим телом, его речь — с вашей собственной речью, его ум — с вашим умом, полностью и неделимо, как вода сливается с водой. В этот момент следует пребывать в изначально чистом Великом совершенстве, самосуществующей пробужденности. Затем вы представляете, что получили все четыре посвящения. Это значит, что вы достигли всех просветленных качеств, которыми обладает Будда Амитабха, так что его любящее сострадание и активности становятся вашими собственными. С большим наслаждением и радостью вы пребываете в покое.
[Чоки Нима Ринпоче 2002, 115]
Для понимания буддийской теории важно отметить природу существ, являющихся йидамами для практикующих. Если в христианстве явления образа Богоматери или святого Николая Угодника верующим воспринимаются как экстраординарное событие, где реальность этих сакральных фигур не подлежит сомнению, а факт явления рассматривается как благодать, ниспосланная выше, то для практикующего буддиста медитация на йидам является каждодневной практикой, а вопрос о форме существования йидама имеет разные ответы для буддистов, находящихся на разных ступенях постижения Учения — и соответственно, на разных ступенях духовного развития. Для массы верующих это божества реально существующие, требующие подношений и поклонения.
Мы были на Цейлоне в храме «Зуба Будды» в древней столице Кале, одном из главных религиозных центров Хинаяны (Малой колесницы) Юго-Восточной Азии. Подношение фруктов и молока помещенному в золотую статую Будды «зубу» сопровождалось пышной церемонией и ревом труб. Приверженцы авраамических религий вполне могли бы интерпретировать это как языческий ритуал поклонения идолу. Возможно, в массовом сознании верующих это отчасти и так, и Будда Шакьямуни из вполне конкретной исторической личности основателя учения превратился в их сознании в сверхъестественное существо. В то же время мифологизация или демифологизация образа основателя учения не так важны для практикующего буддиста, как само учение — Дхарма. Каноническая структура сутры, как правило, включает слова: «Так я слышал», призванные подчеркнуть аутентичность текста, но имплицитно дающие намек на субъективность интерпретации, на пристрастность услышанного. О. О. Розенберг отмечает, что в буддийском менталитете объекты не существуют отдельно от наблюдателя [Розенберг 1991]. Например, не существуют отдельно человек и солнце, а «есть единое поле опыта — человек, видящий солнце». Реальность для буддиста не мир, в котором мы живем, но мир, который мы переживаем. Мир как «местопребывание» четко коррелирует с уровнем развития сознания разных живых существ.
Как пишет Х. Л. Борхес: Другие религии (в отличие от буддизма) в большей степени зависят от нашей способности верить в то, что из Божественной Троицы один снизошел на землю, чтобы быть человеком, и был распят в Иудее. Если мы мусульмане, то должны верить в то, что нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его. Мы можем быть праведными буддистами и отрицать, что Будда существовал. Или, лучше сказать, мы можем думать, что наша вера в его историческое существование не важна, важна вера в Учение. И далее …верить в историческое существование Будды или интересоваться им было бы чем-то наподобие смешения изучения математики с биографией Пифагора или Ньютона. Одна из тем медитации у монахов Китая и Японии — сомнение в существовании Будды. Это одно из сомнений, которое они должны преодолеть, чтобы постичь истину [Борхес 1995, 22].
Мы задавали буддийским ламам Бурятии (как бурятам, так и выходцам с Тибета) следующий вопрос: В современной физике часто используют такие понятия как «демон Лапласа», «демон Максвелла», где термином «демон» персонифицируют некие физические принципы, закономерности, которые мог бы реализовать гипотетический «некто» или «нечто». При этом, конечно, физики не подразумевают реального существования этих демонов, точно так же, как современный человек, говоря о поэтической музе, эльфах и гномах, не подразумевает их реального существования, и в отличие от поиска Лох-Несского чудовища или снежного человека, не организует экспедиции для их обнаружения. Так являются ли Манджушри, Белая или Зеленая Тара реальными персонажами или нет? Мы получали разные ответы, но наиболее полный ответ нашли в книге Чоки Нима Ринпоче: В конечном счете колоритно украшенные божества со множеством рук и символов не существуют в реальности как вещественные и материальные. Занимаясь этими практиками, мы можем устранить нашу привычную склонность воспринимать вещи плотными, например нашу веру в материальное существование физического тела, звука нашего собственного голоса и прочее. Если мы визуализируем тело йидама, повторяя мантру в качестве речи йидама и практикуем самадхи ума (состояние медитативного сосредоточения) йидама, то эти эффективные техники предоставляют искусные средства для очищения наших привычных стереотипов, которые способствуют материальному восприятию реальности [Чоки Нима Ринпоче 2002, 35]. Принцип иллюзорности бытия распространяется и на образы божества: Практикуя божество, мы очень быстро и легко достигаем сиддхи (способности) его тела речи и ума. Поскольку божество — йидам — олицетворяет полное просветление, качества отречения и реализации, то с практикой таких божеств, как Манджушри или Авалокитешвара, в нас очень быстро возникнут такие же качества, подобно изображению, отлитому из формочки. Визуализация образа божества в виде нашего собственного тела устраняет склонность к восприятию реальности плотной <…> Однако в абсолютном смысле, на самом деле не существует ничего такого, как тело йидама или его речь. Нет такой вещественной субстанции, как йидам. Настоящие миры Будд также не обладают реальным существованием [Чоки Нима Ринпоче 2002, 36].
При такой трактовке понятие йидама, на наш взгляд, перекликается с понятием интроекта в психоанализе. Образ отца или значимого другого, согласно З. Фрейду, выступает неким эталоном (своеобразным йидамом) в процессе социализации ребенка, пусковым механизмом которого, по Фрейду, является Эдипов комплекс. Идентификация ребенка с отцом идет на неосознанным уровне — в отличие от целенаправленной практики буддиста, медитирующего на «значимого другого» (йидам) и идентифицирующегося с ним.
Тем не менее эффект идентификации со значимым другим, или даже сам факт присутствия значимого другого в одном пространственном локусе значительно меняет не только внешнее поведение ребенка17, но, по мнению А. У. Хараша, даже усиливает его творческий потенциал, стимулируя к креативным ходам при решении творческих задач [Хараш 1980]. Доказательство «инобытия личности в другом» (термин А. В. и В. А. Петровских) реализовано в остроумных экспериментах И. П. Гуренковой, В. А. Грязевой, А. Н. Смирновой, Е. Ю. Уварина, выполненных под руководством В. А. Петровского, где присутствие портретов «любимого» или «нелюбимого» учителя вызывало расширение или сужение зоны поиска креативных (творческих) решений предложенной экспериментатором задачи [Петровский 1996; Грязева, Петровский 1993]. В современной психотерапевтической практике систематическая работа с образами пока не стала распространенной практикой, и к ней прибегают лишь талантливые одиночки, использующие ее как для психокоррекционной практики, так и для развития творческого потенциала личности. Так, классикой стали эксперименты В. Л. Райкова с внушением испытуемому личности великого живописца [Райков 1998]. Испытуемые не только начинали лучше рисовать (по оценкам экспертов), но и обнаруживали в своем творчестве признаки стиля письма внушенной личности художника. Райков выставлял целые художественные галереи творчества пациентов с внушенной личностью великих художников.
Однако можно полагать, что мера идентификации пациента с внушаемой в гипнозе личностью — отнюдь не полная. Мы были свидетелями забавного гипнотического сеанса, проводимого В. М. Шкловским в 1970-х гг. в рамках Психологической школы молодых ученых. Неуверенному в себе, скованному пациенту внушалась личность А. С. Пушкина, и он, «войдя в роль» и расхаживая по сцене как по мостовым Царского села, вдохновенно читал стихи великого поэта (кем он был в тот момент), и это явно доставляло ему огромное удовольствие. Шкловский ввел в ситуацию третье лицо (ныне покойного П. Шихирева), представил его лицейским другом Александра Сергеевича — Кюхельбекером — и предложил выпить за дружбу. Наш пациент, с восторгом приняв предложение и «выпив шампанское», неожиданно для самого гипнотизера, в лучших традициях гусарского застолья, шарахнул об пол граненый стакан, обдав осколками наблюдавших это действо зрителей. На высоте эмоционального подъема Шкловский вскричал: А теперь в «Яр», к цыганам, к девочкам!, на что эмоциональное возбуждение пациента вдруг сменилось тревогой. Он явно скис: А может, не надо к девочкам. Могут быть конфликты, а там и дуэли. Т.е. глубинная охранительная мотивация, защитные механизмы личности как были, так и остались присущими нашему тревожному пациенту и ограничили его фантазийную активность. Гипнотическое внушение «другой личности», очевидно, не трансформирует полностью личность внушаемого, а наслаивается на нее, функционируя в тех пределах, которые допускают моральные ценности, этические установки исходной личности, подвергаемой внушению.
Приведенные примеры психотерапевтической (или около нее) практики влияния интроекта или «значимого другого» на личность пациента близки, на наш взгляд, практике медитации на йидам, правда, с существенным различием в звене интерпретации, так как буддизм отрицает реальность личности («я» или эго). Буддийская концепция пустоты («шуньята») утверждает иллюзорность представленного в сансаре мира, как и иллюзорность личности самого наблюдателя. В отличие от академической американской, европейской и отечественной психологии, где личность выступает вершиной психики, а «Я», по образному выражению О. Кюльпе, является верховным правителем (хозяином) психических функций [Кюльпе 1914], буддийское мировоззрение полагает их иллюзией омраченного сознания. Буддизм отрицает то, что в брахманизме или джайнизме получило название «джива» (душа) или «пудгала» (личность). Все, что мы считаем «своим» или «собой», например «мой дом», «моя семья», «мое тело», «мои мысли», «мои взгляды» — все это не является нашим, так как в действительности не существует никакого обладателя [Квантипалло 2005, 64].
Рассуждения буддистов, а конкретнее, школ Йогачары и Мадхъямики, на наш взгляд, близки современному конструктивизму (Келли, Петренко, Герген, Харре). Так, Р. Харре, призывает психологов переключить внимание в исследовании с поиска «я» как некой сущности, которую надо раскрыть и описать, на конструирование «я». Конструктивистский подход в духе Дж. Келли рассматривает сознание человека по аналогии с работой ученого, который конструирует модели мира, себя, других людей. «Личность», или «я», рассматриваются как когнитивные конструкции, «я-концепции», построенные нашим сознанием, чтобы связать индивидуальный опыт, нанизав на временную нить и интегрировав те события, свидетелем которых было сознание. Буддисты выражают сходные идеи «несубстанциональности», иллюзорности «Я» более образно. Это как если бы горная тропа оказалась завалена каменными глыбами и осыпавшейся землей; и вот для того, чтобы взобраться на вершину, кто-то расчищает и разравнивает тропу, пока ему, в конце концов, не удастся вскарабкаться наверх и достичь полного кругозора. Эти факторы просветления можно сравнить с расчисткой и разравниванием такой тропы. Единственное различие в этом сравнении состоит в том, что, когда открывается полный обзор, оказывается, что на вершине никого нет! [Квантипалло 2005, 79].
Идея иллюзорности «Я» имеет огромный психотерапевтический эффект. В психоанализе эффект вытесненного в бессознательное травмирующего переживания снимается путем его осознания и переосмысления. «На место Оно надо поставить Эго», полагал Фрейд. Таким образом, через осознание и, тем самым, обобщение (за сознанием стоит человеческая культура) снимется эффект единичной уникальности психологической травмы. Единичный аффект растворяется во всеобщем социальном.
Буддизм в концепции отрицания «я» идет еще дальше психоанализа, снимая эффект страдания — просто за отсутствием страдающего субъекта. Осознание иллюзорности «я» снимает проблему личного страдания, замещая ее состраданием ко всем существам: людям, животным, богам, духам и т.д. На место я (эго) буддизм ставит Единое Сущее (единство всех живых существ).
Рассмотрим другой пример йидама:
Для понимания буддийской теории важно отметить природу существ, являющихся йидамами для практикующих. Если в христианстве явления образа Богоматери или святого Николая Угодника верующим воспринимаются как экстраординарное событие, где реальность этих сакральных фигур не подлежит сомнению, а факт явления рассматривается как благодать, ниспосланная выше, то для практикующего буддиста медитация на йидам является каждодневной практикой, а вопрос о форме существования йидама имеет разные ответы для буддистов, находящихся на разных ступенях постижения Учения — и соответственно, на разных ступенях духовного развития. Для массы верующих это божества реально существующие, требующие подношений и поклонения.
Мы были на Цейлоне в храме «Зуба Будды» в древней столице Кале, одном из главных религиозных центров Хинаяны (Малой колесницы) Юго-Восточной Азии. Подношение фруктов и молока помещенному в золотую статую Будды «зубу» сопровождалось пышной церемонией и ревом труб. Приверженцы авраамических религий вполне могли бы интерпретировать это как языческий ритуал поклонения идолу. Возможно, в массовом сознании верующих это отчасти и так, и Будда Шакьямуни из вполне конкретной исторической личности основателя учения превратился в их сознании в сверхъестественное существо. В то же время мифологизация или демифологизация образа основателя учения не так важны для практикующего буддиста, как само учение — Дхарма. Каноническая структура сутры, как правило, включает слова: «Так я слышал», призванные подчеркнуть аутентичность текста, но имплицитно дающие намек на субъективность интерпретации, на пристрастность услышанного. О. О. Розенберг отмечает, что в буддийском менталитете объекты не существуют отдельно от наблюдателя [Розенберг 1991]. Например, не существуют отдельно человек и солнце, а «есть единое поле опыта — человек, видящий солнце». Реальность для буддиста не мир, в котором мы живем, но мир, который мы переживаем. Мир как «местопребывание» четко коррелирует с уровнем развития сознания разных живых существ.
Как пишет Х. Л. Борхес: Другие религии (в отличие от буддизма) в большей степени зависят от нашей способности верить в то, что из Божественной Троицы один снизошел на землю, чтобы быть человеком, и был распят в Иудее. Если мы мусульмане, то должны верить в то, что нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его. Мы можем быть праведными буддистами и отрицать, что Будда существовал. Или, лучше сказать, мы можем думать, что наша вера в его историческое существование не важна, важна вера в Учение. И далее …верить в историческое существование Будды или интересоваться им было бы чем-то наподобие смешения изучения математики с биографией Пифагора или Ньютона. Одна из тем медитации у монахов Китая и Японии — сомнение в существовании Будды. Это одно из сомнений, которое они должны преодолеть, чтобы постичь истину [Борхес 1995, 22].
Мы задавали буддийским ламам Бурятии (как бурятам, так и выходцам с Тибета) следующий вопрос: В современной физике часто используют такие понятия как «демон Лапласа», «демон Максвелла», где термином «демон» персонифицируют некие физические принципы, закономерности, которые мог бы реализовать гипотетический «некто» или «нечто». При этом, конечно, физики не подразумевают реального существования этих демонов, точно так же, как современный человек, говоря о поэтической музе, эльфах и гномах, не подразумевает их реального существования, и в отличие от поиска Лох-Несского чудовища или снежного человека, не организует экспедиции для их обнаружения. Так являются ли Манджушри, Белая или Зеленая Тара реальными персонажами или нет? Мы получали разные ответы, но наиболее полный ответ нашли в книге Чоки Нима Ринпоче: В конечном счете колоритно украшенные божества со множеством рук и символов не существуют в реальности как вещественные и материальные. Занимаясь этими практиками, мы можем устранить нашу привычную склонность воспринимать вещи плотными, например нашу веру в материальное существование физического тела, звука нашего собственного голоса и прочее. Если мы визуализируем тело йидама, повторяя мантру в качестве речи йидама и практикуем самадхи ума (состояние медитативного сосредоточения) йидама, то эти эффективные техники предоставляют искусные средства для очищения наших привычных стереотипов, которые способствуют материальному восприятию реальности [Чоки Нима Ринпоче 2002, 35]. Принцип иллюзорности бытия распространяется и на образы божества: Практикуя божество, мы очень быстро и легко достигаем сиддхи (способности) его тела речи и ума. Поскольку божество — йидам — олицетворяет полное просветление, качества отречения и реализации, то с практикой таких божеств, как Манджушри или Авалокитешвара, в нас очень быстро возникнут такие же качества, подобно изображению, отлитому из формочки. Визуализация образа божества в виде нашего собственного тела устраняет склонность к восприятию реальности плотной <…> Однако в абсолютном смысле, на самом деле не существует ничего такого, как тело йидама или его речь. Нет такой вещественной субстанции, как йидам. Настоящие миры Будд также не обладают реальным существованием [Чоки Нима Ринпоче 2002, 36].
При такой трактовке понятие йидама, на наш взгляд, перекликается с понятием интроекта в психоанализе. Образ отца или значимого другого, согласно З. Фрейду, выступает неким эталоном (своеобразным йидамом) в процессе социализации ребенка, пусковым механизмом которого, по Фрейду, является Эдипов комплекс. Идентификация ребенка с отцом идет на неосознанным уровне — в отличие от целенаправленной практики буддиста, медитирующего на «значимого другого» (йидам) и идентифицирующегося с ним.
Тем не менее эффект идентификации со значимым другим, или даже сам факт присутствия значимого другого в одном пространственном локусе значительно меняет не только внешнее поведение ребенка17, но, по мнению А. У. Хараша, даже усиливает его творческий потенциал, стимулируя к креативным ходам при решении творческих задач [Хараш 1980]. Доказательство «инобытия личности в другом» (термин А. В. и В. А. Петровских) реализовано в остроумных экспериментах И. П. Гуренковой, В. А. Грязевой, А. Н. Смирновой, Е. Ю. Уварина, выполненных под руководством В. А. Петровского, где присутствие портретов «любимого» или «нелюбимого» учителя вызывало расширение или сужение зоны поиска креативных (творческих) решений предложенной экспериментатором задачи [Петровский 1996; Грязева, Петровский 1993]. В современной психотерапевтической практике систематическая работа с образами пока не стала распространенной практикой, и к ней прибегают лишь талантливые одиночки, использующие ее как для психокоррекционной практики, так и для развития творческого потенциала личности. Так, классикой стали эксперименты В. Л. Райкова с внушением испытуемому личности великого живописца [Райков 1998]. Испытуемые не только начинали лучше рисовать (по оценкам экспертов), но и обнаруживали в своем творчестве признаки стиля письма внушенной личности художника. Райков выставлял целые художественные галереи творчества пациентов с внушенной личностью великих художников.
Однако можно полагать, что мера идентификации пациента с внушаемой в гипнозе личностью — отнюдь не полная. Мы были свидетелями забавного гипнотического сеанса, проводимого В. М. Шкловским в 1970-х гг. в рамках Психологической школы молодых ученых. Неуверенному в себе, скованному пациенту внушалась личность А. С. Пушкина, и он, «войдя в роль» и расхаживая по сцене как по мостовым Царского села, вдохновенно читал стихи великого поэта (кем он был в тот момент), и это явно доставляло ему огромное удовольствие. Шкловский ввел в ситуацию третье лицо (ныне покойного П. Шихирева), представил его лицейским другом Александра Сергеевича — Кюхельбекером — и предложил выпить за дружбу. Наш пациент, с восторгом приняв предложение и «выпив шампанское», неожиданно для самого гипнотизера, в лучших традициях гусарского застолья, шарахнул об пол граненый стакан, обдав осколками наблюдавших это действо зрителей. На высоте эмоционального подъема Шкловский вскричал: А теперь в «Яр», к цыганам, к девочкам!, на что эмоциональное возбуждение пациента вдруг сменилось тревогой. Он явно скис: А может, не надо к девочкам. Могут быть конфликты, а там и дуэли. Т.е. глубинная охранительная мотивация, защитные механизмы личности как были, так и остались присущими нашему тревожному пациенту и ограничили его фантазийную активность. Гипнотическое внушение «другой личности», очевидно, не трансформирует полностью личность внушаемого, а наслаивается на нее, функционируя в тех пределах, которые допускают моральные ценности, этические установки исходной личности, подвергаемой внушению.
Приведенные примеры психотерапевтической (или около нее) практики влияния интроекта или «значимого другого» на личность пациента близки, на наш взгляд, практике медитации на йидам, правда, с существенным различием в звене интерпретации, так как буддизм отрицает реальность личности («я» или эго). Буддийская концепция пустоты («шуньята») утверждает иллюзорность представленного в сансаре мира, как и иллюзорность личности самого наблюдателя. В отличие от академической американской, европейской и отечественной психологии, где личность выступает вершиной психики, а «Я», по образному выражению О. Кюльпе, является верховным правителем (хозяином) психических функций [Кюльпе 1914], буддийское мировоззрение полагает их иллюзией омраченного сознания. Буддизм отрицает то, что в брахманизме или джайнизме получило название «джива» (душа) или «пудгала» (личность). Все, что мы считаем «своим» или «собой», например «мой дом», «моя семья», «мое тело», «мои мысли», «мои взгляды» — все это не является нашим, так как в действительности не существует никакого обладателя [Квантипалло 2005, 64].
Рассуждения буддистов, а конкретнее, школ Йогачары и Мадхъямики, на наш взгляд, близки современному конструктивизму (Келли, Петренко, Герген, Харре). Так, Р. Харре, призывает психологов переключить внимание в исследовании с поиска «я» как некой сущности, которую надо раскрыть и описать, на конструирование «я». Конструктивистский подход в духе Дж. Келли рассматривает сознание человека по аналогии с работой ученого, который конструирует модели мира, себя, других людей. «Личность», или «я», рассматриваются как когнитивные конструкции, «я-концепции», построенные нашим сознанием, чтобы связать индивидуальный опыт, нанизав на временную нить и интегрировав те события, свидетелем которых было сознание. Буддисты выражают сходные идеи «несубстанциональности», иллюзорности «Я» более образно. Это как если бы горная тропа оказалась завалена каменными глыбами и осыпавшейся землей; и вот для того, чтобы взобраться на вершину, кто-то расчищает и разравнивает тропу, пока ему, в конце концов, не удастся вскарабкаться наверх и достичь полного кругозора. Эти факторы просветления можно сравнить с расчисткой и разравниванием такой тропы. Единственное различие в этом сравнении состоит в том, что, когда открывается полный обзор, оказывается, что на вершине никого нет! [Квантипалло 2005, 79].
Идея иллюзорности «Я» имеет огромный психотерапевтический эффект. В психоанализе эффект вытесненного в бессознательное травмирующего переживания снимается путем его осознания и переосмысления. «На место Оно надо поставить Эго», полагал Фрейд. Таким образом, через осознание и, тем самым, обобщение (за сознанием стоит человеческая культура) снимется эффект единичной уникальности психологической травмы. Единичный аффект растворяется во всеобщем социальном.
Буддизм в концепции отрицания «я» идет еще дальше психоанализа, снимая эффект страдания — просто за отсутствием страдающего субъекта. Осознание иллюзорности «я» снимает проблему личного страдания, замещая ее состраданием ко всем существам: людям, животным, богам, духам и т.д. На место я (эго) буддизм ставит Единое Сущее (единство всех живых существ).
Рассмотрим другой пример йидама:
На ясном и чистом диске луны вы помещаете слог-источник. Из этого слога-источника исходят лучи ярко-синего цвета, которые распространяют огромное и живое сострадание, лучащееся за пределы неба и пространства. Он удовлетворяет потребности и исполняет желания чувствительных существ, принося с собой горячую и сердечную атмосферу, позволяющую осветить смятения. Затем, исходя из этого слога-источника, вы создаете Махавайрочану Будду белого цвета с чертами аристократа — ребенка восьми лет, невинного вида, чистого, мощного, царского. Он одет в костюм индийского средневекового царя. Он носит искрящуюся золотую корону с инкрустацией из волшебных драгоценностей для исполнения желаний. Часть его длинных волос развевается по плечам и спине; другая часть образует на макушке его головы пучок волос, украшенных искрящимся голубым алмазом. Он сидит в позе лотоса на лунном диске, его ладони сложены в мудру медитации и держат ваджр, вставленный в чистый белый кристалл
[Моаканин 2004, 77]. Эта практика, как нам кажется, связана с индивидуальным очищением от негативных эмоций, пробуждением ребенка в себе, яркости и чистоте чувств. В современных гипнотерапевтических практиках (например, в работе Милтона Эриксона, В. Кучеренко) используется регресс в прошлое, когда у пациента, находящегося в трансе, из глубин памяти актуализируются эмоционально насыщенные картины прошлого, энергетика которых меняет краски дня сегодняшнего: Я маленькая девочка, с большими бантами, вплетенными в косы, с огромным букетом пионов иду в первый класс в школу. Меня ведет моя мама, совсем молодая. На мне коричневое платьице с кружевным воротничком и белый передник. Я смотрю себе под ноги и вижу разбитую после падения с велосипеда коленку. На мне те самые кожаные сандалики и белые носочки. Я беру маму за руку и перевожу взгляд в голубое небо. Мне тревожно и радостно.
Другой пример отчета пациентки 60 лет, проходившей у нас сеансы по поводу тяжелого соматического заболевания: Ей полтора года. Она на руках у матери. Они на высоком берегу и перед глазами море. Она в первый раз видит море. Она чувствует запах водорослей. Рядом папа. Папа и мама молодые. Она одета в легкое платьице и башмачки. На вопрос гипнотизера: «А как застегнуты башмачки?» отвечает: «На пуговку». Этот прием возрастной регрессии позволяет актуализировать образ «я» и схему тела того времени, когда человек был юн и здоров. Пациентка до этого была не способна управлять движением руки, после курса сеанса стала одинаково хорошо владеть обеими руками.
Еще один пример визуализации йидама, связанный с махаянской практикой «Тонглен» («отдавание и принятие») приводит Чоки Нима Ринпоче: Мы представляем себя в образе Великого Сострадательного, белого пробужденного Авалокитешвары, и визуализируем, что лучи света, представляющие наши заслуги, наши знания, сострадание, добродетельную карму, славу, удачу и прочее, исходят из нашего тела во всех направлениях. Они струятся вовне и расходятся подобно лучам света, падая, как снежные хлопья, осыпая живых существ и растворяясь в них. Таким образом, мы распределяем всю нашу позитивную энергию между всеми остальными существами. Затем мы представляем, что в нас впитываются все их страдания, плохая карма, омрачения и тому подобное. Наконец, мы представляем, что улучшили накопленные заслуги, и что наше тело в образе Авалокитешвары стало еще более ярким, ослепительным и чистым, чем ранее [Чоки Нима Ринпоче 2002, 50].
Если в буддийских практиках визуализации используется, как правило, образ йидама, взятый из сакрального (мифологического) пантеона, носителя тех или иных востребованных психических состояний, то объектом созерцания может стать и заурядный бытовой объект. Есть история о том, как пастух буйволов стал учеником Нагарджуны (один из великих буддийских учителей, живший в Индии, предположительно, во II в. н.э.). Простец пастух испытывал затруднение при медитации на йидам, так как всю жизнь пас буйволов и привык видеть только их морды. Их образы и лезли ему в голову при сосредоточении внимания. Тогда Нагарджуна посоветовал своему незадачливому ученику пытаться при медитации представить себя могучим буйволом с торчащими рогами. Пастух практиковал так долгое время, и однажды Нагарджуна получил от него послание, в котором тот извинялся, что долгое время не появлялся у учителя, так как не мог выйти из своей пещеры, из-за своих слишком великих рогов. Они оказались шире выхода из пещеры. Нагарджуна в ответ послал письмо, в котором говорилось: Это очень хорошо. Ты достиг некоторой устойчивости в шаматхе (практика медитативного успокоения ума), и теперь тебе нужно визуализировать, чтобы рога исчезли. Выполняя такую визуализацию, пастух смог через некоторое время покинуть пещеру. Эта история, — пишет Чоки Нима Ринпоче, — не просто шутка. Благодаря устойчивости ума, обретенной на этом этапе, позднее ученику было легче получить указующее наставление. Это было искусное средство, примененное Нагарджуной, так как этот человек не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме головы буйвола [Чоки Нима Ринпоче 2002, 63].
Эта почти анекдотическая история имеет прямой аналог в нашей практике гипнотерапии. В целях энергетической подпитки пациентам внушался образ огромного, могучего тигра, с которым они идентифицировались, т.е. воображали себя этим тигром, — если пользоваться буддийской (тантрической) терминологией, тигр являлся «йидамом» для пациентов. Пациенты ощущали себя сильным могучим животным, мягко и упруго ступающим на когтистые лапы. Пациенты чувствовали себя способными прыгнуть на десять-пятнадцать метров. (Сильным переживанием одного из авторов статьи при отработке этой практики было необычное чувство расширения лица до ширины морды животного и увеличение расстояния между глазами.) Сильное пружинистое тело было полно жизни и энергии. В дальнейшем пациенты учились входить в этот образ тигра, когда того требовало болезненное физическое состояние или напряженная бытовая ситуация. Пациенты успешно применяли этот прием в жизни, но однажды одна из пациенток созналась: Я вхожу в образ тигра, когда в своей фирме я чувствую себя неуверенно. Все бы было хорошо, но все время хвост начинает стучать об пол. Другой пациент после внушения ему образа могучего гиганта, отправляясь по утрам на машине на работу, при въезде в туннель, всякий раз инстинктивно пригибал голову.
Если в буддийской практике визуализации на йидам в его роли выступает некое просветленное существо, то в психотехнике психотерапии образы визуализации не задаются заранее, а спонтанно всплывают при концентрации внимания и остановке вербального сознания. Пациент может ощутить себя маленьким плачущим ребенком, а потом вдруг видит себя грозным средневековым рыцарем, скачущим с копьем наперевес, с развивающимся красным плюмажем. То он ощущает себя бабочкой, которую встречные порывы ветра заносит то в одну, то в другую сторону; а то вдруг птичкой, склевавшей бабочку, и теперь на упругих крыльях устремившуюся ввысь, в синеву неба, или капелькой росы на зеленом листике. Выбор того или иного образа и логика их переходов (как и динамика сна), очевидно, диктуется внутренней динамикой эмоциональных состояний пациента, грамматику и синтаксис которых еще предстоит понять и реконструировать. В любом случае логика бессознательного, проявляющаяся в последовательности всплывающих образов и в их содержании, обусловлена задачами «работы переживания» («работы горя» [Василюк 1984]) и связана с самолечением и гармонизацией нашей психики (или души).
Наряду с просветленными образами бодхисаттв в роли йидама могут выступать и гневные защитники учения, наводящие страх и трепет на практикующего. Рассмотрим описание одного из этих божеств: Махаваджрабхайрава должен иметь тело интенсивно синего цвета, девять лиц, тридцать четыре руки и шестнадцать ступней. Ноги с левой стороны должны быть впереди, а правой сзади. Он способен поглотить три мира. Он хихикает и издает сильные крики. Его язык вогнут. Он скрипит зубами и хмурит брови. Из его глаз и бровей вырываются языки пламени, подобные космическому огню в момент разрушения Вселенной. Его желтые волосы бесконечны. Он угрожает богам материальных, равно как и нематериальных сфер. Он нагоняет страх даже на ужасающие божества. Он выкрикивает слово «страдание» голосом, подобным грохоту грома. Он пожирает человеческую плоть, костный мозг и жир и пьет кровь. На его голове венок из пяти ужасающих черепов, и он носит ожерелье из пятнадцати свежеотрубленных голов. Его жертвенный шнур имеет форму черной змеи. Его серьги и украшения сделаны из человеческих костей. У него огромный живот, он наг, и его пенис пребывает в эрекции [Моаканин 2004, 76].
У читателя может вызвать недоумение полезность визуализации, а через нее и идентификации практикующего со столь ужасающим образом. Какие сверхъестественные качества мы можем обрести, идентифицируясь с ним? И здесь снова очевидна параллель с психотерапевтическими практиками. В психотерапии детей, страдающих детскими страхами (боящихся бабы Яги, вурдалаков или иных чудовищ), используют прием, когда дети рисуют страшных персонажей или сами изображают, играют их. С дикими воплями ребенок бегает по комнате, изображая страшилище: «Мы страшные, страшные бабы Яги». Играя пусть негативного, но могучего персонажа, он сам становится всесильным, устрашающим других. И в то же время появляется возможность для самоиронии. Так он не идентифицируется полностью со злобным персонажем, изображая его, он гротескно преувеличивает его характеристики и тем самым как бы отстраняется от них.
Интересная психотерапевтическая и, можно сказать, режиссерская находка, «прием эмоциональной инверсии» принадлежит В. В. Кучеренко. Неуверенному, тревожному ребенку, проходящему психотерапию, внушается образ ночного леса. Вот он идет по лесной тропинке, под ногами хрустит валежник, где-то ухает филин, слышны крики ночных птиц, рев животных, а деревья приобретают причудливые образы грозных великанов. И вдруг из ближайшего куста на него смотрят, не мигая, в упор, два огромных светящихся глаза. Ребенка охватывает ужас, Тело сковано, ноги прилипли к земле. Бежать невозможно. Ужас! Ужас! Нет возможности терпеть этот ужас. И вдруг из-за кустов, откуда на ребенка смотрели два фосфоресцирующих глаза, выползает маленький, черный котенок с расширенными огромными от ужаса зрачками. Он потерял маму, он весь трясется от страха. Его огромные глаза умоляюще смотрят на ребенка. Он нуждается в помощи. Происходит трансформация ситуации и катарсис: «Так вот кто на самом деле нуждается в помощи и защите. А ты, такой большой и сильный в сравнении с котенком, можешь ему помочь». И вот уже ребенок чувствует себя великаном и заступником слабого. Он большой, добрый и никого не боится.
Другая функция медитации на страшных опасных ситуациях, например «медитация на смерть», «медитация на трупы» [Ньянапоника 1994], связана с культивированием непривязанности к телу (практика чод — отсечения страха), с необходимостью осознания иллюзорности «я», а в психотерапевтических практиках — с активизацией инстинкта самосохранения и активизацией работы иммунной системы. Внушается переживание тяжести в теле, нет возможности двигаться, как будто тебя засасывает жирная, зловонная трясина. Болотная жижа сдавливает тело все сильнее и сильнее. Пузыри болотного газа скользят по телу. В кожу впиваются болотные пиявки. В рот попадают остатки гниющих растений и разлагающиеся останки животных. Захлебываясь, человек ощущает судороги, конвульсии. После переживания предсмертной агонии возникает ощущение разлагающегося трупа. На теле возникают трупные пятна. Разлагается мясо, стекая с костей. Все тело как бы растворяется в болоте. С растворением, с исчезновением тела (для буддистов это переживание равносильно утрате эго) человек освобождается от страха смерти. «Я», утратившее физическую оболочку, оказывается внутри гораздо более обширного и богатого образа (пространства): элементами схемы тела (оболочки «я») выступают движения воздушных потоков, потоки солнечного света, водные и лесные просторы. Жизнь во всех ее проявлениях. Остается опушка леса, на краю болота, покрытая яркой зеленью. Яркое солнце. Белоснежные облака плывут по синему небу. Слышится пение птиц. Все наполнено движением звуков, красок. Все полно движением жизни.
На этом примере можно почувствовать, что работа по визуализации в измененных состояниях сознания связана с изменением категоризации, со снятием субъект-объектной оппозиции «я» и мира, или, говоря языком буддизма, «снятии двойственности». Меняются границы самоидентификации. В состоянии медитации физическое тело как бы растворяется в самых разных проявлениях мира, и сознание резонансно всему миру. В измененных состояниях сознания изменяется категоризация себя, других существ, мира в целом. Переживания глубокой медитации трудно выразимы в естественном языке. Вербальное, выраженное в языке сознание по своей сути направлено на объекты внешнего мира, т.е. интенционально. Оно, так сказать, обслуживает социальное бытие человека. Даже будучи направлено внутрь себя, оно остается опосредованным языком, социальным и культурно-историческим, т.е. пристрастным. Человек смотрит на себя глазами своей эпохи, своей культуры, своей религии. Сознание культурно-исторично [Выготский, Лурия 1930; Леонтьев 1981; Коул 1997; Асмолов 1996; Шкуратов 1997] и в силу этого неизбежно пристрастно, так как оно призвано воспринимать мир исходя из нужд и потребностей деятельного человека, из его мотивов и ценностей, следовательно, с точки зрения буддийской философии, оно является «омраченным», включает в себя эмоции и аффекты, привязывающие человека к миру сансары.
Вербальное сознание дискретно и дискурсивно и семиотично. Оно категоризует мир исходя из логики языка, дискретного по своей природе, и следует логике этого языка, заложенной в синтаксисе и грамматике. Е. А. Торчинов, излагая и интерпретируя взгляды Нагарджуны, пишет: Любая попытка создать адекватную реальности метафизическую систему обречена на провал: думая, что мы описываем бытие, мы описываем лишь наши представления о бытии, созданные нашей различающей мыслью, положившей, прежде всего, субъект-объектную дихотомию как условие эмпирического познания. В начале мы навешиваем на реальность ярлыки, а потом принимаемся изучать их, принимая их за саму реальность, или, другими словами, принимаем за луну палец, указывающий на луну [Торчинов 2005, 126].
В теории личностных конструктов Дж. Келли дается обоснование языка как инструмента конструирования опосредованного знания в форме моделей мира, других людей и самого себя. Язык позволяет человеку обжить пространство существования и ограничить его пределы. Однако, как показывают религиозные практики, медитация и психотерапия, помимо опосредованного языком канала мировосприятия существует и канал (или каналы) прямого, неопосредствованного знания. Неопосредствованное знание имеет две формы, или аспекта, которые можно условно обозначить как горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный канал — интуиция [Бергсон 1998; Лосский 1992] или эмпатия, позволяющий одному живому существу сопереживать, сочувствовать другому, ощущать боль и страдание другого существа, чувствовать его эмоциональное состояние18. Как пишут авторы сборника «Психотерапия и духовные практики»: Боль и тревога клиента — это как бы призыв к терапевту оставить свою привязанность к положению эксперта и вместо этого проникнуть в мир психики клиента и разделить с ним его горести. Работая со страхом пациента, психотерапевт находит, что и сам получает возможность дальнейшей работы над собственным страхом. Помогая кому-то исследовать чувство пустоты и одиночества, лежащее в глубине даже самых интимных его взаимоотношений, одновременно получает шанс заметить эту часть собственной психики и тоже установить с ней взаимоотношения. В действительности существует только одно сознание. Хотя для некоторых людей это может звучать какой-то непонятной мистикой, тем не менее в момент подлинного контакта осознание пациента и осознание психотерапевта оказываются двумя концами одного континуума [Психотерапия 1998, 8].
Работа эмпатийного канала проявляется в феноменах любви, альтруизма, лицедейства; благодаря ему мы сопереживаем персонажам театра и кино, становясь на время этими персонажами. Работа этого канала может иметь не только положительный, с точки зрения человеческой морали, но и негативный знак. Так престарелые, страдающие импотенцией римские патриции переживали сексуальные эмоции, наблюдая за сексуальными оргиями рабов, идентифицируясь с ними. Серийные маньяки и садисты подхлестывают собственную импотенцию чувств через сопереживание боли, наносимой жертве.
В случае художественной литературы и поэзии с их вымышленными персонажами труднее объяснить в духе А. Бергсона сопереживание как эмпатию живых существ живым существам. Хотя можно предположить, что поскольку за вымышленными персонажами скрывается вполне реальный автор, то мы сопереживаем эмоциональным движениям его души, либо допустить, в качестве объекта эмпатии, существование мысле-форм, порожденных творчеством писателя, в виде интроектов.
Эмпатия, или интуиция, подразумевает некоторую активность воспринимающего («поднастройку» в терминах НЛП, см. [Гриндер, Бэндлер 1995]). Мы, зрители, затаиваем дыхание, напрягаемся в момент опасности для экранного героя. Желательно принять позу, дышать в том же ритме, что и человек, к сознанию которого подстраивается гипнотизер, суггестор. Трудно в гипнозе ощутить себя птицей, сидя со сложенными руками. Только раскинув их («расправив крылья»), можно ощутить встречный ветер, почувствовать давление воздуха и планировать, опираясь на воздушные потоки.
Вертикальный канал неопосредствованного, лишенного категоризации познания связан с полным прекращением какой-либо ментальной активности. Концентрация внимания на непредметный объект (типа плоскости или пространства определенной окраски) ведет к остановке потока мыслей, образов. Анализируя концепцию «просветления» в «Шраддхотпада-шастре», Н. В. Абаев пишет, что, согласно этой шастре, истинное («неомраченное») сознание обладает недвижимой природой, но эмоции и желания вызывают движения мысли. Это подобно воде в океане, волны которого поднимаются под действием ветра. Подобно этому, сознание человека, чистое по природе, приходит в движение (т.е. возбуждается) под действием ветра неведения. Сознание обладает неподвижной природой, и если неведение исчезает, то поток ложной активности тоже прекращается, но природа мудрости остается неизменной и не исчезает [Абаев 1989, 251]. В приведенной цитате содержится идея пассивности истинного «неомраченного» сознания, диаметрально противоположная представлениям о сознании в теории деятельности [Леонтьев 1971; Рубинштейн 1935], где подчеркивается активная, деятельностная природа сознания. В известных экспериментах А. Л. Ярбуса объект наблюдения с помощью присоски устанавливался непосредственно на глазном яблоке наблюдателя, лишая, тем самым, его возможности сканировать объект, т.е. осуществлять двигательную активность глаза в поле восприятия. Объект через некоторое, весьма незначительное, время исчезал из поля зрения наблюдателя, становился для него невидимым [Ярбус 1965]. Эти эксперименты иллюстрируют идею того, что процессы восприятия и осознания требуют активных действий самого наблюдателя. В. П. Зинченко и Н. Ю. Вергилес, воспроизводя эти исследования, показали, что поддерживать восприятие объекта можно не только внешней активностью движения глаза, но и внутренними действиями переключения внимания. Эти движения внимания по полю стабилизированного изображения были названы ими «викарными перцептивными действиями». Возможность викарных перцептивных действий ставит, по крайней мере, под вопрос полное отрицание какой-либо активности субъекта в состоянии «неомраченного», неопосредованного, связанного с «верикальной» медитацией сознания и требует своего экспериментального решения. Электрофизиологические исследования энцефалограмм людей в глубокой медитации показывают несводимость их биоритмов ни ко сну, ни к бодрствованию, и позволяют выдвигать гипотезы о нейрофизиологии особых измененных состояний сознания.
Но вернемся к медитации как вертикальному каналу прямого неопосредствованного познания. В разных традициях он обозначается как «озарение», «йоговская интуиция», «сошедшая благодать», «прямое видение», «пророческое видение». Медитативное знание целостно и недискретно. Оно не содержит в себе каких-либо конструктов. У него не существует свойства «хорошее» и «плохое», «большое» и «маленькое», «красивое» и «безобразное», в этом заключается его недвойственность. Сущность его абсолютно чиста. <…> В медитативной практике происходит процесс перехода от сампра-джнятасамдхи к асампраджнята, где созерцающий теряет в объекте мышления его форму и различия. Вместо созерцаемого объекта появляется неопределенность, бездна, нечто противоположное всему феноменальному. Здесь в этот момент, теряя феноменальную природу объекта, индивид раскрывает в себе ноуменальную реальность мира. Через совпадение блаженства и шуньи (пустоты) он обнаруживает вместерожденную мудрость (джняна) [Дандарон 1995, 12].
И когда мы определили медитацию как прямой канал познания, то открытым остается вопрос: а познание чего? Возможно ли открытие какой-либо позитивной информации о мире, о себе, о прошлом и настоящем, а может быть, и о будущем? Мы не беремся ни утверждать, ни опровергать возможности «заглянуть» в медитативном состоянии в прошлое или будущее, по крайней мере, в рамках настоящей статьи. Мы утверждаем: через концентрацию внимания, через многократное повторение мантр медитация останавливает «поток сознания», прерывая процесс вербальной категоризации. Категоризация19 всего того, что Л. С. Выготский называл высшими психическими функциями (восприятия, памяти, внимания, мышления), позволяет человеку использовать кристаллизованный в значениях опыт человечества, опыт предков. Но опыт, обогащая, одновременно ограничивает. Медитация снимает (на время, конечно, для человека, не достигшего уровня сознания бодхисаттвы) все возможные формы категоризации, в том числе и категоризацию собственного «я». Вернее, если исходить из принципа иллюзорности «личности», — категоризацию того рефлексирующего сознания, которое, опираясь на события прошлого, мнение других, самооценку и тому подобное, создает «я»-образ. Декатегоризация «я» напоминает «снятие ошибки стимула» Э. Титченера, т.е. ту специфическую установку сознания по распредмечиванию предметных образов, когда взамен знаемых предметов (например, книги, лежащей на столе) психолог в рамках аналитической интроспекции описывает контуры и перепады яркости, цветовые пятна, соответствующие «феноменальной ткани» того, что при категоризации мы называем «книгой». Однако, в отличие от установки по распредмечиванию предметного мира, при медитации сознание устремлено внутрь себя. Измененные состояния сознания ведут к изменениям форм категоризации мира, себя, других [Петренко, Кучеренко, Вяльба 2006]. Процесс декатегоризации «я» как шелуху, снимает стереотипы привычных форм осознания собственной персоны, значимости «я». И здесь этот процесс, по-видимому, когерентен важнейшей человеческой проблеме -проблеме духовности. Под духовностью мы понимаем обретение смысла человеческих деяний и самой жизни. Нечто (поступок, жизнь индивида, существование цивилизации, существование человечества) имеет смысл в контексте чего-то большего, в которое это нечто включено. Поднимаясь вверх по «духовной вертикали», человек осознает как мимолетность собственного бытия, так и его значимость как звена рода, носителя национальной и общечеловеческой культуры, и наконец, носителя частицы, искры Мирового Духа (или Интегрального сознания). Феномен духовности, возникший в первую очередь в рамках религиозного сознания, где высшим мерилом вечности, абсолютной системой отсчета является Бог, на наш взгляд, не является феноменом только религиозного сознания. Расширение границ идентичности расширяет контекст существования и наполняет смыслом собственное бытие человека, делая его духовным. Процесс медитации изменяет формы категоризации мира и себя, раздвигает границы идентичности, в пределе вообще снимая какие-либо формы категоризации. В пределе, декатегоризация ведет к восприятию пустоты (шуньяты), а состояние измененного сознания — к нирване. При этом нирвана не есть тупое созерцание беспредметного ничто, а полный блаженства эмоциональный аккорд, лишенный, впрочем, какого-либо чувственного начала. Это чувство единства со всем миром живого и неживого (впрочем, в состоянии нирваны нет этой дихотомии), с миром, в котором нет и индивидуального сознания. Сознание, как светлый поток, впадая в безбрежный океан, становится частью Единого. Сознание верующего христианина, ощутив присутствие Бога, вкушает беспредельную благодать. Сознание буддиста, лишенное двойственности и каких-либо форм категоризации, раскрывается как беспредельный покой и свобода, свобода от кармических перевоплощений и освобождение от сансары. Сознание ученого, испытав искушение нирваной и пережив внеописуемость трансперсонального опыта, тем не менее пытается «заглянуть» в возможные формы внеземного бытия, обратив взор «внутрь самого себя», внутрь собственного сознания.
Другой пример отчета пациентки 60 лет, проходившей у нас сеансы по поводу тяжелого соматического заболевания: Ей полтора года. Она на руках у матери. Они на высоком берегу и перед глазами море. Она в первый раз видит море. Она чувствует запах водорослей. Рядом папа. Папа и мама молодые. Она одета в легкое платьице и башмачки. На вопрос гипнотизера: «А как застегнуты башмачки?» отвечает: «На пуговку». Этот прием возрастной регрессии позволяет актуализировать образ «я» и схему тела того времени, когда человек был юн и здоров. Пациентка до этого была не способна управлять движением руки, после курса сеанса стала одинаково хорошо владеть обеими руками.
Еще один пример визуализации йидама, связанный с махаянской практикой «Тонглен» («отдавание и принятие») приводит Чоки Нима Ринпоче: Мы представляем себя в образе Великого Сострадательного, белого пробужденного Авалокитешвары, и визуализируем, что лучи света, представляющие наши заслуги, наши знания, сострадание, добродетельную карму, славу, удачу и прочее, исходят из нашего тела во всех направлениях. Они струятся вовне и расходятся подобно лучам света, падая, как снежные хлопья, осыпая живых существ и растворяясь в них. Таким образом, мы распределяем всю нашу позитивную энергию между всеми остальными существами. Затем мы представляем, что в нас впитываются все их страдания, плохая карма, омрачения и тому подобное. Наконец, мы представляем, что улучшили накопленные заслуги, и что наше тело в образе Авалокитешвары стало еще более ярким, ослепительным и чистым, чем ранее [Чоки Нима Ринпоче 2002, 50].
Если в буддийских практиках визуализации используется, как правило, образ йидама, взятый из сакрального (мифологического) пантеона, носителя тех или иных востребованных психических состояний, то объектом созерцания может стать и заурядный бытовой объект. Есть история о том, как пастух буйволов стал учеником Нагарджуны (один из великих буддийских учителей, живший в Индии, предположительно, во II в. н.э.). Простец пастух испытывал затруднение при медитации на йидам, так как всю жизнь пас буйволов и привык видеть только их морды. Их образы и лезли ему в голову при сосредоточении внимания. Тогда Нагарджуна посоветовал своему незадачливому ученику пытаться при медитации представить себя могучим буйволом с торчащими рогами. Пастух практиковал так долгое время, и однажды Нагарджуна получил от него послание, в котором тот извинялся, что долгое время не появлялся у учителя, так как не мог выйти из своей пещеры, из-за своих слишком великих рогов. Они оказались шире выхода из пещеры. Нагарджуна в ответ послал письмо, в котором говорилось: Это очень хорошо. Ты достиг некоторой устойчивости в шаматхе (практика медитативного успокоения ума), и теперь тебе нужно визуализировать, чтобы рога исчезли. Выполняя такую визуализацию, пастух смог через некоторое время покинуть пещеру. Эта история, — пишет Чоки Нима Ринпоче, — не просто шутка. Благодаря устойчивости ума, обретенной на этом этапе, позднее ученику было легче получить указующее наставление. Это было искусное средство, примененное Нагарджуной, так как этот человек не мог сосредоточиться ни на чем другом, кроме головы буйвола [Чоки Нима Ринпоче 2002, 63].
Эта почти анекдотическая история имеет прямой аналог в нашей практике гипнотерапии. В целях энергетической подпитки пациентам внушался образ огромного, могучего тигра, с которым они идентифицировались, т.е. воображали себя этим тигром, — если пользоваться буддийской (тантрической) терминологией, тигр являлся «йидамом» для пациентов. Пациенты ощущали себя сильным могучим животным, мягко и упруго ступающим на когтистые лапы. Пациенты чувствовали себя способными прыгнуть на десять-пятнадцать метров. (Сильным переживанием одного из авторов статьи при отработке этой практики было необычное чувство расширения лица до ширины морды животного и увеличение расстояния между глазами.) Сильное пружинистое тело было полно жизни и энергии. В дальнейшем пациенты учились входить в этот образ тигра, когда того требовало болезненное физическое состояние или напряженная бытовая ситуация. Пациенты успешно применяли этот прием в жизни, но однажды одна из пациенток созналась: Я вхожу в образ тигра, когда в своей фирме я чувствую себя неуверенно. Все бы было хорошо, но все время хвост начинает стучать об пол. Другой пациент после внушения ему образа могучего гиганта, отправляясь по утрам на машине на работу, при въезде в туннель, всякий раз инстинктивно пригибал голову.
Если в буддийской практике визуализации на йидам в его роли выступает некое просветленное существо, то в психотехнике психотерапии образы визуализации не задаются заранее, а спонтанно всплывают при концентрации внимания и остановке вербального сознания. Пациент может ощутить себя маленьким плачущим ребенком, а потом вдруг видит себя грозным средневековым рыцарем, скачущим с копьем наперевес, с развивающимся красным плюмажем. То он ощущает себя бабочкой, которую встречные порывы ветра заносит то в одну, то в другую сторону; а то вдруг птичкой, склевавшей бабочку, и теперь на упругих крыльях устремившуюся ввысь, в синеву неба, или капелькой росы на зеленом листике. Выбор того или иного образа и логика их переходов (как и динамика сна), очевидно, диктуется внутренней динамикой эмоциональных состояний пациента, грамматику и синтаксис которых еще предстоит понять и реконструировать. В любом случае логика бессознательного, проявляющаяся в последовательности всплывающих образов и в их содержании, обусловлена задачами «работы переживания» («работы горя» [Василюк 1984]) и связана с самолечением и гармонизацией нашей психики (или души).
Наряду с просветленными образами бодхисаттв в роли йидама могут выступать и гневные защитники учения, наводящие страх и трепет на практикующего. Рассмотрим описание одного из этих божеств: Махаваджрабхайрава должен иметь тело интенсивно синего цвета, девять лиц, тридцать четыре руки и шестнадцать ступней. Ноги с левой стороны должны быть впереди, а правой сзади. Он способен поглотить три мира. Он хихикает и издает сильные крики. Его язык вогнут. Он скрипит зубами и хмурит брови. Из его глаз и бровей вырываются языки пламени, подобные космическому огню в момент разрушения Вселенной. Его желтые волосы бесконечны. Он угрожает богам материальных, равно как и нематериальных сфер. Он нагоняет страх даже на ужасающие божества. Он выкрикивает слово «страдание» голосом, подобным грохоту грома. Он пожирает человеческую плоть, костный мозг и жир и пьет кровь. На его голове венок из пяти ужасающих черепов, и он носит ожерелье из пятнадцати свежеотрубленных голов. Его жертвенный шнур имеет форму черной змеи. Его серьги и украшения сделаны из человеческих костей. У него огромный живот, он наг, и его пенис пребывает в эрекции [Моаканин 2004, 76].
У читателя может вызвать недоумение полезность визуализации, а через нее и идентификации практикующего со столь ужасающим образом. Какие сверхъестественные качества мы можем обрести, идентифицируясь с ним? И здесь снова очевидна параллель с психотерапевтическими практиками. В психотерапии детей, страдающих детскими страхами (боящихся бабы Яги, вурдалаков или иных чудовищ), используют прием, когда дети рисуют страшных персонажей или сами изображают, играют их. С дикими воплями ребенок бегает по комнате, изображая страшилище: «Мы страшные, страшные бабы Яги». Играя пусть негативного, но могучего персонажа, он сам становится всесильным, устрашающим других. И в то же время появляется возможность для самоиронии. Так он не идентифицируется полностью со злобным персонажем, изображая его, он гротескно преувеличивает его характеристики и тем самым как бы отстраняется от них.
Интересная психотерапевтическая и, можно сказать, режиссерская находка, «прием эмоциональной инверсии» принадлежит В. В. Кучеренко. Неуверенному, тревожному ребенку, проходящему психотерапию, внушается образ ночного леса. Вот он идет по лесной тропинке, под ногами хрустит валежник, где-то ухает филин, слышны крики ночных птиц, рев животных, а деревья приобретают причудливые образы грозных великанов. И вдруг из ближайшего куста на него смотрят, не мигая, в упор, два огромных светящихся глаза. Ребенка охватывает ужас, Тело сковано, ноги прилипли к земле. Бежать невозможно. Ужас! Ужас! Нет возможности терпеть этот ужас. И вдруг из-за кустов, откуда на ребенка смотрели два фосфоресцирующих глаза, выползает маленький, черный котенок с расширенными огромными от ужаса зрачками. Он потерял маму, он весь трясется от страха. Его огромные глаза умоляюще смотрят на ребенка. Он нуждается в помощи. Происходит трансформация ситуации и катарсис: «Так вот кто на самом деле нуждается в помощи и защите. А ты, такой большой и сильный в сравнении с котенком, можешь ему помочь». И вот уже ребенок чувствует себя великаном и заступником слабого. Он большой, добрый и никого не боится.
Другая функция медитации на страшных опасных ситуациях, например «медитация на смерть», «медитация на трупы» [Ньянапоника 1994], связана с культивированием непривязанности к телу (практика чод — отсечения страха), с необходимостью осознания иллюзорности «я», а в психотерапевтических практиках — с активизацией инстинкта самосохранения и активизацией работы иммунной системы. Внушается переживание тяжести в теле, нет возможности двигаться, как будто тебя засасывает жирная, зловонная трясина. Болотная жижа сдавливает тело все сильнее и сильнее. Пузыри болотного газа скользят по телу. В кожу впиваются болотные пиявки. В рот попадают остатки гниющих растений и разлагающиеся останки животных. Захлебываясь, человек ощущает судороги, конвульсии. После переживания предсмертной агонии возникает ощущение разлагающегося трупа. На теле возникают трупные пятна. Разлагается мясо, стекая с костей. Все тело как бы растворяется в болоте. С растворением, с исчезновением тела (для буддистов это переживание равносильно утрате эго) человек освобождается от страха смерти. «Я», утратившее физическую оболочку, оказывается внутри гораздо более обширного и богатого образа (пространства): элементами схемы тела (оболочки «я») выступают движения воздушных потоков, потоки солнечного света, водные и лесные просторы. Жизнь во всех ее проявлениях. Остается опушка леса, на краю болота, покрытая яркой зеленью. Яркое солнце. Белоснежные облака плывут по синему небу. Слышится пение птиц. Все наполнено движением звуков, красок. Все полно движением жизни.
На этом примере можно почувствовать, что работа по визуализации в измененных состояниях сознания связана с изменением категоризации, со снятием субъект-объектной оппозиции «я» и мира, или, говоря языком буддизма, «снятии двойственности». Меняются границы самоидентификации. В состоянии медитации физическое тело как бы растворяется в самых разных проявлениях мира, и сознание резонансно всему миру. В измененных состояниях сознания изменяется категоризация себя, других существ, мира в целом. Переживания глубокой медитации трудно выразимы в естественном языке. Вербальное, выраженное в языке сознание по своей сути направлено на объекты внешнего мира, т.е. интенционально. Оно, так сказать, обслуживает социальное бытие человека. Даже будучи направлено внутрь себя, оно остается опосредованным языком, социальным и культурно-историческим, т.е. пристрастным. Человек смотрит на себя глазами своей эпохи, своей культуры, своей религии. Сознание культурно-исторично [Выготский, Лурия 1930; Леонтьев 1981; Коул 1997; Асмолов 1996; Шкуратов 1997] и в силу этого неизбежно пристрастно, так как оно призвано воспринимать мир исходя из нужд и потребностей деятельного человека, из его мотивов и ценностей, следовательно, с точки зрения буддийской философии, оно является «омраченным», включает в себя эмоции и аффекты, привязывающие человека к миру сансары.
Вербальное сознание дискретно и дискурсивно и семиотично. Оно категоризует мир исходя из логики языка, дискретного по своей природе, и следует логике этого языка, заложенной в синтаксисе и грамматике. Е. А. Торчинов, излагая и интерпретируя взгляды Нагарджуны, пишет: Любая попытка создать адекватную реальности метафизическую систему обречена на провал: думая, что мы описываем бытие, мы описываем лишь наши представления о бытии, созданные нашей различающей мыслью, положившей, прежде всего, субъект-объектную дихотомию как условие эмпирического познания. В начале мы навешиваем на реальность ярлыки, а потом принимаемся изучать их, принимая их за саму реальность, или, другими словами, принимаем за луну палец, указывающий на луну [Торчинов 2005, 126].
В теории личностных конструктов Дж. Келли дается обоснование языка как инструмента конструирования опосредованного знания в форме моделей мира, других людей и самого себя. Язык позволяет человеку обжить пространство существования и ограничить его пределы. Однако, как показывают религиозные практики, медитация и психотерапия, помимо опосредованного языком канала мировосприятия существует и канал (или каналы) прямого, неопосредствованного знания. Неопосредствованное знание имеет две формы, или аспекта, которые можно условно обозначить как горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный канал — интуиция [Бергсон 1998; Лосский 1992] или эмпатия, позволяющий одному живому существу сопереживать, сочувствовать другому, ощущать боль и страдание другого существа, чувствовать его эмоциональное состояние18. Как пишут авторы сборника «Психотерапия и духовные практики»: Боль и тревога клиента — это как бы призыв к терапевту оставить свою привязанность к положению эксперта и вместо этого проникнуть в мир психики клиента и разделить с ним его горести. Работая со страхом пациента, психотерапевт находит, что и сам получает возможность дальнейшей работы над собственным страхом. Помогая кому-то исследовать чувство пустоты и одиночества, лежащее в глубине даже самых интимных его взаимоотношений, одновременно получает шанс заметить эту часть собственной психики и тоже установить с ней взаимоотношения. В действительности существует только одно сознание. Хотя для некоторых людей это может звучать какой-то непонятной мистикой, тем не менее в момент подлинного контакта осознание пациента и осознание психотерапевта оказываются двумя концами одного континуума [Психотерапия 1998, 8].
Работа эмпатийного канала проявляется в феноменах любви, альтруизма, лицедейства; благодаря ему мы сопереживаем персонажам театра и кино, становясь на время этими персонажами. Работа этого канала может иметь не только положительный, с точки зрения человеческой морали, но и негативный знак. Так престарелые, страдающие импотенцией римские патриции переживали сексуальные эмоции, наблюдая за сексуальными оргиями рабов, идентифицируясь с ними. Серийные маньяки и садисты подхлестывают собственную импотенцию чувств через сопереживание боли, наносимой жертве.
В случае художественной литературы и поэзии с их вымышленными персонажами труднее объяснить в духе А. Бергсона сопереживание как эмпатию живых существ живым существам. Хотя можно предположить, что поскольку за вымышленными персонажами скрывается вполне реальный автор, то мы сопереживаем эмоциональным движениям его души, либо допустить, в качестве объекта эмпатии, существование мысле-форм, порожденных творчеством писателя, в виде интроектов.
Эмпатия, или интуиция, подразумевает некоторую активность воспринимающего («поднастройку» в терминах НЛП, см. [Гриндер, Бэндлер 1995]). Мы, зрители, затаиваем дыхание, напрягаемся в момент опасности для экранного героя. Желательно принять позу, дышать в том же ритме, что и человек, к сознанию которого подстраивается гипнотизер, суггестор. Трудно в гипнозе ощутить себя птицей, сидя со сложенными руками. Только раскинув их («расправив крылья»), можно ощутить встречный ветер, почувствовать давление воздуха и планировать, опираясь на воздушные потоки.
Вертикальный канал неопосредствованного, лишенного категоризации познания связан с полным прекращением какой-либо ментальной активности. Концентрация внимания на непредметный объект (типа плоскости или пространства определенной окраски) ведет к остановке потока мыслей, образов. Анализируя концепцию «просветления» в «Шраддхотпада-шастре», Н. В. Абаев пишет, что, согласно этой шастре, истинное («неомраченное») сознание обладает недвижимой природой, но эмоции и желания вызывают движения мысли. Это подобно воде в океане, волны которого поднимаются под действием ветра. Подобно этому, сознание человека, чистое по природе, приходит в движение (т.е. возбуждается) под действием ветра неведения. Сознание обладает неподвижной природой, и если неведение исчезает, то поток ложной активности тоже прекращается, но природа мудрости остается неизменной и не исчезает [Абаев 1989, 251]. В приведенной цитате содержится идея пассивности истинного «неомраченного» сознания, диаметрально противоположная представлениям о сознании в теории деятельности [Леонтьев 1971; Рубинштейн 1935], где подчеркивается активная, деятельностная природа сознания. В известных экспериментах А. Л. Ярбуса объект наблюдения с помощью присоски устанавливался непосредственно на глазном яблоке наблюдателя, лишая, тем самым, его возможности сканировать объект, т.е. осуществлять двигательную активность глаза в поле восприятия. Объект через некоторое, весьма незначительное, время исчезал из поля зрения наблюдателя, становился для него невидимым [Ярбус 1965]. Эти эксперименты иллюстрируют идею того, что процессы восприятия и осознания требуют активных действий самого наблюдателя. В. П. Зинченко и Н. Ю. Вергилес, воспроизводя эти исследования, показали, что поддерживать восприятие объекта можно не только внешней активностью движения глаза, но и внутренними действиями переключения внимания. Эти движения внимания по полю стабилизированного изображения были названы ими «викарными перцептивными действиями». Возможность викарных перцептивных действий ставит, по крайней мере, под вопрос полное отрицание какой-либо активности субъекта в состоянии «неомраченного», неопосредованного, связанного с «верикальной» медитацией сознания и требует своего экспериментального решения. Электрофизиологические исследования энцефалограмм людей в глубокой медитации показывают несводимость их биоритмов ни ко сну, ни к бодрствованию, и позволяют выдвигать гипотезы о нейрофизиологии особых измененных состояний сознания.
Но вернемся к медитации как вертикальному каналу прямого неопосредствованного познания. В разных традициях он обозначается как «озарение», «йоговская интуиция», «сошедшая благодать», «прямое видение», «пророческое видение». Медитативное знание целостно и недискретно. Оно не содержит в себе каких-либо конструктов. У него не существует свойства «хорошее» и «плохое», «большое» и «маленькое», «красивое» и «безобразное», в этом заключается его недвойственность. Сущность его абсолютно чиста. <…> В медитативной практике происходит процесс перехода от сампра-джнятасамдхи к асампраджнята, где созерцающий теряет в объекте мышления его форму и различия. Вместо созерцаемого объекта появляется неопределенность, бездна, нечто противоположное всему феноменальному. Здесь в этот момент, теряя феноменальную природу объекта, индивид раскрывает в себе ноуменальную реальность мира. Через совпадение блаженства и шуньи (пустоты) он обнаруживает вместерожденную мудрость (джняна) [Дандарон 1995, 12].
И когда мы определили медитацию как прямой канал познания, то открытым остается вопрос: а познание чего? Возможно ли открытие какой-либо позитивной информации о мире, о себе, о прошлом и настоящем, а может быть, и о будущем? Мы не беремся ни утверждать, ни опровергать возможности «заглянуть» в медитативном состоянии в прошлое или будущее, по крайней мере, в рамках настоящей статьи. Мы утверждаем: через концентрацию внимания, через многократное повторение мантр медитация останавливает «поток сознания», прерывая процесс вербальной категоризации. Категоризация19 всего того, что Л. С. Выготский называл высшими психическими функциями (восприятия, памяти, внимания, мышления), позволяет человеку использовать кристаллизованный в значениях опыт человечества, опыт предков. Но опыт, обогащая, одновременно ограничивает. Медитация снимает (на время, конечно, для человека, не достигшего уровня сознания бодхисаттвы) все возможные формы категоризации, в том числе и категоризацию собственного «я». Вернее, если исходить из принципа иллюзорности «личности», — категоризацию того рефлексирующего сознания, которое, опираясь на события прошлого, мнение других, самооценку и тому подобное, создает «я»-образ. Декатегоризация «я» напоминает «снятие ошибки стимула» Э. Титченера, т.е. ту специфическую установку сознания по распредмечиванию предметных образов, когда взамен знаемых предметов (например, книги, лежащей на столе) психолог в рамках аналитической интроспекции описывает контуры и перепады яркости, цветовые пятна, соответствующие «феноменальной ткани» того, что при категоризации мы называем «книгой». Однако, в отличие от установки по распредмечиванию предметного мира, при медитации сознание устремлено внутрь себя. Измененные состояния сознания ведут к изменениям форм категоризации мира, себя, других [Петренко, Кучеренко, Вяльба 2006]. Процесс декатегоризации «я» как шелуху, снимает стереотипы привычных форм осознания собственной персоны, значимости «я». И здесь этот процесс, по-видимому, когерентен важнейшей человеческой проблеме -проблеме духовности. Под духовностью мы понимаем обретение смысла человеческих деяний и самой жизни. Нечто (поступок, жизнь индивида, существование цивилизации, существование человечества) имеет смысл в контексте чего-то большего, в которое это нечто включено. Поднимаясь вверх по «духовной вертикали», человек осознает как мимолетность собственного бытия, так и его значимость как звена рода, носителя национальной и общечеловеческой культуры, и наконец, носителя частицы, искры Мирового Духа (или Интегрального сознания). Феномен духовности, возникший в первую очередь в рамках религиозного сознания, где высшим мерилом вечности, абсолютной системой отсчета является Бог, на наш взгляд, не является феноменом только религиозного сознания. Расширение границ идентичности расширяет контекст существования и наполняет смыслом собственное бытие человека, делая его духовным. Процесс медитации изменяет формы категоризации мира и себя, раздвигает границы идентичности, в пределе вообще снимая какие-либо формы категоризации. В пределе, декатегоризация ведет к восприятию пустоты (шуньяты), а состояние измененного сознания — к нирване. При этом нирвана не есть тупое созерцание беспредметного ничто, а полный блаженства эмоциональный аккорд, лишенный, впрочем, какого-либо чувственного начала. Это чувство единства со всем миром живого и неживого (впрочем, в состоянии нирваны нет этой дихотомии), с миром, в котором нет и индивидуального сознания. Сознание, как светлый поток, впадая в безбрежный океан, становится частью Единого. Сознание верующего христианина, ощутив присутствие Бога, вкушает беспредельную благодать. Сознание буддиста, лишенное двойственности и каких-либо форм категоризации, раскрывается как беспредельный покой и свобода, свобода от кармических перевоплощений и освобождение от сансары. Сознание ученого, испытав искушение нирваной и пережив внеописуемость трансперсонального опыта, тем не менее пытается «заглянуть» в возможные формы внеземного бытия, обратив взор «внутрь самого себя», внутрь собственного сознания.
* Исследования проводились при финансовой помощи РФФИ, грант N 08 - 06 - 00176-а.
1 См. [Юнг 1997; Моаканин 2004; Гроф 2002; Минделл 2004; Уилбер 2004; Уолш 2004].
2 См. [Козлов, Майков 2000; Козлов 2006; Карицкий 2002; Лобзин, Решетников 1986; Волкова 2002; Ожиганова 2002].
3 См. [Ольденбург 1994; Розенберг 1991; Щербатской 1988; Абаев 1989; Бонгард-Левин 1980; Дандорон 1997; Пятигорский 2004; Цыбиков 1991; Андросов 1990; Торчинов 2005; Рудой 1990; Базаров 1998; Лепехов, Донец, Нестеркин 2006; Парибок, Эрман 2003].
4 Авторы благодарят за общение, комментарии и ценные замечания буддийских лам: Еше-Лодой Ринпоче, Хамбо-ламу Дамба Аюшеева, ламу Чой-Доржи Будаева, Догба ламу, Ригзен ламу, Данзанняма ламу, ламу Григория, хуварака (студента) Эрдэни; врачей, специалистов в области тибетской медицины: Н. К. Каратуева, М. А. Крупского, Л. Аюшеву; востоковедов: академика РАН Г. М. Бонгарда-Левина, В. Н. Андросова; ученых-буддологов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН: член.-корр. РАН Б. В. Базарова, проф. СЮ. Лепехова, СП. Нестеркина, к.ф.н. Д. Аюшеву, буддиста С. Корнилова.
5 Буддизм возник в Индии предположительно в V или IV в. до нашей эры и передавался в устной традиции. Самые ранние письменные тексты относятся только к III в. н.э. Поскольку в махаяне состояние будды (буддовость) превращается в высший универсальный принцип, любой монах или йогин, испытавший состояние пробуждения, истинность которого по определению имманентна и самоочевидна, мог рассматривать свое понимание и свое видение, как понимание и видение Будды, и фиксировать их в традиционных формах сутр, свидетельствующих о том, что данный текст есть подлинные слова Будды [Торчинов 2006].
6 Наряду с передачей знания от учителя ученику, в виде цепочки, восходящей к самому Будде, в Махаяне существует практика сокрытия или тайного знания [Тулку Тондуб Ринпоче 2006], которую практиковал основатель буддизма в Тибете — Падмасамбхава. Последователи школы Ньингма почитают его как второго по важности учителя после Будды. По указанию Гуру Падмасамбхавы в расщелинах скал, пещерах было оставлено множество фрагментов канонических текстов (так называемых «терма»), которые используются спустя столетия как ключи для пробуждения воспоминания об учении. Просветленный медитирующий («тертон» в терминологии Махаяны), входя в измененные состояния сознания, способен восстановить полный текст учения.
7 Санкскритское слово «нирвана» происходит от глагола со значениями «успокаиваться», «гаснуть» — как светильник или как солнце на закате.
8 Форма уединения с целью духовной практики, по сути близкая к православному «затворничеству».
9 Т.е. сконцентрировав их в одной точке, как поясняет переводчик шастры, Н. В. Абаев.
10 Он прошел трехнедельную практику специального курса погружения в медитативное состояние (курс сатипаттхана) как воспитания ума, разработанного на основе древних практик буддийским священником Махаси-саядо в Центре Саасана Иита в Рангуне (Бирма).
11 Здесь Григорий Палама ссылается на сочинение Симеона Нового Богослова "Способ священной молитвы и внимания к себе".
12 Тантрический буддизм (Ваджраяна или Алмазная колесница) и школа йогочары стали ведущим направлением буддизма махаяны в Индии накануне его заката (VIII-XII вв.), вызванного, во многом, мусульманскими завоеваниями севера Индии), и в такой форме буддизм был заимствован тибетской традицией, а через нее проник в Монголию, Бурятию, Туву, Калмыкию. (Тантрический буддизм в настоящее время получает распространение и на христианском Западе, см. Аюшеева 2003.) Тантры (т.е. доктринальные тексты) Ваджраяны утверждают, что благодаря сложной литургии, эффективной практике мантр и визуализации образа божеств (йидамов), а также созерцания мандал, можно добиться состояния Будды в течение одной человеческой жизни. Последующие примеры описываемых нами буддийских практик будут касаться в основном именно тантрического буддизма Ваджраяны.
13 Белая и Зеленая Тары — женские божества, по легенде, родившиеся из слез Будды.
14 Молитва в первую очередь есть обращение к личностному Богу, просьба о помощи, выражение любви к Богу. Она предельно эмоционально (душевно) и духовно насыщена. Лучшие молитвы, — пишет Ф. Е. Василюк, — есть плод вдохновенного поэтического выражения душевно-духовных состояний, когда-то впервые пережитых святым, т.е. духовно-гениальным человеком, и вылившихся в прекрасную форму. <…> В словах молитвы кристаллизовалось живое молитвенное чувство святого, и стоит человеку отогреть эту молитву своим дыханием, своей искренностью, как она начинает пульсировать и откликаться. Стремясь посредством этой молитвы выразить свое личное, <…> человек обретает возможность впитывать из слов и образов молитвы духовный и душевный опыт святости, смирения, покаяния и открытости и прочее, включать его в свое переживание, усваивать, обогащать переживание теми духовно-творческими движениями, которые под действием благодати и молитвенного порыва совершила душа святого [Василюк 2005, 44]. Этой личностной составляющей мантры не имеют.
15 Якорь — стимул, запускающий условно-рефлекторную реакцию пациента, с помощью которого суггестор (или сам пациент) может управлять поведением пациента. Например, страдающему навязчивыми страхами пациенту внушается, что когда он будет касаться мочки собственного уха — то ужасающие видения исчезнут. Установленная условно-рефлекторная связка дает возможность пациенту контролировать свои состояния. Техника якорения может использоваться и для манипулирования человеком, например средствами массовой коммуникации. Так, диктор или политический обозреватель сообщает текущие новости, приятные телезрителям, находясь в правой части экрана, а неприятные в левой. Затем он рассказывает о биографии некоего политического лидера, о котором хочет сформировать благоприятное мнение, находясь в правой части экрана, перемещаясь в левую при комментировании действий отвергаемого им (или заказчиком) персонажа.
16 Он включает в себя гиппокамп, лимбическую систему, области гипоталамуса, образующие круг Папеца [Лурия 1968].
17 См. исследование [Субботский 1983] по моральному развитию ребенка.
18 А. Бергсон приводит в качестве примера интуиции то, как оса-наездник наносит парализующий укол в ганглии гусенице, чтобы использовать ее в качестве пищи для собственной личинки. Оса безошибочно находит ганглии у гусеницы не в результате «проб и ошибок» (как следует из теории научения в бихевиоризме), а благодаря интуиции, чувствуя эти ганглии в себе, моделируя средствами собственной психики чужую телесность. Механизм интуиции, с точки зрения Бергсона, возможен в силу того, что живые организмы имеют общие эволюционные корни, позволяя идентифицироваться живому относительно живого.
19 Или опосредованность значениями, по А. Н. Леонтьеву.
1 См. [Юнг 1997; Моаканин 2004; Гроф 2002; Минделл 2004; Уилбер 2004; Уолш 2004].
2 См. [Козлов, Майков 2000; Козлов 2006; Карицкий 2002; Лобзин, Решетников 1986; Волкова 2002; Ожиганова 2002].
3 См. [Ольденбург 1994; Розенберг 1991; Щербатской 1988; Абаев 1989; Бонгард-Левин 1980; Дандорон 1997; Пятигорский 2004; Цыбиков 1991; Андросов 1990; Торчинов 2005; Рудой 1990; Базаров 1998; Лепехов, Донец, Нестеркин 2006; Парибок, Эрман 2003].
4 Авторы благодарят за общение, комментарии и ценные замечания буддийских лам: Еше-Лодой Ринпоче, Хамбо-ламу Дамба Аюшеева, ламу Чой-Доржи Будаева, Догба ламу, Ригзен ламу, Данзанняма ламу, ламу Григория, хуварака (студента) Эрдэни; врачей, специалистов в области тибетской медицины: Н. К. Каратуева, М. А. Крупского, Л. Аюшеву; востоковедов: академика РАН Г. М. Бонгарда-Левина, В. Н. Андросова; ученых-буддологов Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН: член.-корр. РАН Б. В. Базарова, проф. СЮ. Лепехова, СП. Нестеркина, к.ф.н. Д. Аюшеву, буддиста С. Корнилова.
5 Буддизм возник в Индии предположительно в V или IV в. до нашей эры и передавался в устной традиции. Самые ранние письменные тексты относятся только к III в. н.э. Поскольку в махаяне состояние будды (буддовость) превращается в высший универсальный принцип, любой монах или йогин, испытавший состояние пробуждения, истинность которого по определению имманентна и самоочевидна, мог рассматривать свое понимание и свое видение, как понимание и видение Будды, и фиксировать их в традиционных формах сутр, свидетельствующих о том, что данный текст есть подлинные слова Будды [Торчинов 2006].
6 Наряду с передачей знания от учителя ученику, в виде цепочки, восходящей к самому Будде, в Махаяне существует практика сокрытия или тайного знания [Тулку Тондуб Ринпоче 2006], которую практиковал основатель буддизма в Тибете — Падмасамбхава. Последователи школы Ньингма почитают его как второго по важности учителя после Будды. По указанию Гуру Падмасамбхавы в расщелинах скал, пещерах было оставлено множество фрагментов канонических текстов (так называемых «терма»), которые используются спустя столетия как ключи для пробуждения воспоминания об учении. Просветленный медитирующий («тертон» в терминологии Махаяны), входя в измененные состояния сознания, способен восстановить полный текст учения.
7 Санкскритское слово «нирвана» происходит от глагола со значениями «успокаиваться», «гаснуть» — как светильник или как солнце на закате.
8 Форма уединения с целью духовной практики, по сути близкая к православному «затворничеству».
9 Т.е. сконцентрировав их в одной точке, как поясняет переводчик шастры, Н. В. Абаев.
10 Он прошел трехнедельную практику специального курса погружения в медитативное состояние (курс сатипаттхана) как воспитания ума, разработанного на основе древних практик буддийским священником Махаси-саядо в Центре Саасана Иита в Рангуне (Бирма).
11 Здесь Григорий Палама ссылается на сочинение Симеона Нового Богослова "Способ священной молитвы и внимания к себе".
12 Тантрический буддизм (Ваджраяна или Алмазная колесница) и школа йогочары стали ведущим направлением буддизма махаяны в Индии накануне его заката (VIII-XII вв.), вызванного, во многом, мусульманскими завоеваниями севера Индии), и в такой форме буддизм был заимствован тибетской традицией, а через нее проник в Монголию, Бурятию, Туву, Калмыкию. (Тантрический буддизм в настоящее время получает распространение и на христианском Западе, см. Аюшеева 2003.) Тантры (т.е. доктринальные тексты) Ваджраяны утверждают, что благодаря сложной литургии, эффективной практике мантр и визуализации образа божеств (йидамов), а также созерцания мандал, можно добиться состояния Будды в течение одной человеческой жизни. Последующие примеры описываемых нами буддийских практик будут касаться в основном именно тантрического буддизма Ваджраяны.
13 Белая и Зеленая Тары — женские божества, по легенде, родившиеся из слез Будды.
14 Молитва в первую очередь есть обращение к личностному Богу, просьба о помощи, выражение любви к Богу. Она предельно эмоционально (душевно) и духовно насыщена. Лучшие молитвы, — пишет Ф. Е. Василюк, — есть плод вдохновенного поэтического выражения душевно-духовных состояний, когда-то впервые пережитых святым, т.е. духовно-гениальным человеком, и вылившихся в прекрасную форму. <…> В словах молитвы кристаллизовалось живое молитвенное чувство святого, и стоит человеку отогреть эту молитву своим дыханием, своей искренностью, как она начинает пульсировать и откликаться. Стремясь посредством этой молитвы выразить свое личное, <…> человек обретает возможность впитывать из слов и образов молитвы духовный и душевный опыт святости, смирения, покаяния и открытости и прочее, включать его в свое переживание, усваивать, обогащать переживание теми духовно-творческими движениями, которые под действием благодати и молитвенного порыва совершила душа святого [Василюк 2005, 44]. Этой личностной составляющей мантры не имеют.
15 Якорь — стимул, запускающий условно-рефлекторную реакцию пациента, с помощью которого суггестор (или сам пациент) может управлять поведением пациента. Например, страдающему навязчивыми страхами пациенту внушается, что когда он будет касаться мочки собственного уха — то ужасающие видения исчезнут. Установленная условно-рефлекторная связка дает возможность пациенту контролировать свои состояния. Техника якорения может использоваться и для манипулирования человеком, например средствами массовой коммуникации. Так, диктор или политический обозреватель сообщает текущие новости, приятные телезрителям, находясь в правой части экрана, а неприятные в левой. Затем он рассказывает о биографии некоего политического лидера, о котором хочет сформировать благоприятное мнение, находясь в правой части экрана, перемещаясь в левую при комментировании действий отвергаемого им (или заказчиком) персонажа.
16 Он включает в себя гиппокамп, лимбическую систему, области гипоталамуса, образующие круг Папеца [Лурия 1968].
17 См. исследование [Субботский 1983] по моральному развитию ребенка.
18 А. Бергсон приводит в качестве примера интуиции то, как оса-наездник наносит парализующий укол в ганглии гусенице, чтобы использовать ее в качестве пищи для собственной личинки. Оса безошибочно находит ганглии у гусеницы не в результате «проб и ошибок» (как следует из теории научения в бихевиоризме), а благодаря интуиции, чувствуя эти ганглии в себе, моделируя средствами собственной психики чужую телесность. Механизм интуиции, с точки зрения Бергсона, возможен в силу того, что живые организмы имеют общие эволюционные корни, позволяя идентифицироваться живому относительно живого.
19 Или опосредованность значениями, по А. Н. Леонтьеву.
Литература
Сайт В.В. Кучеренко, 2016
- Абаев 1989 — Абаев Н.В. Чань-Буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Новосибирск, 1989.
- Асмолов 1996 — Асмолов А.К. Культурно-историческая психология и конструирование миров. Москва-Воронеж, 1996.
- Альбедиль 2006 — Альбедиль М. Буддизм. СПб., 2006.
- Андросов 1990 — Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990.
- Андросов 2001 — Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов. М., 2001.
- Аюшева 2003 — Аюшева Д.В. Современный тибетский буддизм на Западе. Улан-Удэ, 2003.
- Бергсон 1998 — Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.
- Борхес 1995 — Борхес Х.Л. Вкус спасения // Байкал. Культурно-экологический журнал. Спецномер. Г. Улан-Удэ, 1995.
- Бонгард-Левин 1980 — Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. Философия, наука, религия. М., 1980.
- Буддизм 2006 — Буддизм. Каноны, История, Искусство. Научное издание. М, 2006.
- Квантипалло 2005 — Бхикку Квантипалло. Секреты медитации. М., 2005.
- Бэндлер, Гриндер 1995 — Бэндлер Р., Гриндер Д. Шаблоны гипнотических техник Милтона Эриксона с точки зрения НЛП. М., 1995
- Василюк 1984 — Василюк Ф.Е. Психология переживания. М., 1984.
- Василюк 2005 — Василюк Ф.Е, Переживание и молитва. Опыт общепсихологического исследования. М., 2005.
- Волкова 2002 — Волкова А.М. Феноменология мистического опыта. СПб., 2002.
- Выготский, Лурия 1993 — Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории поведения. 2-е изд. М., 1993.
- Гостев 1998 — Гостев А.А. Дорога из Зазеркалья: психология развития образной сферы человека. М., 1998.
- Гриндер, Бэндлер 1995 — Гриндер Д., Бэндлер Р. Структура магии. М, 1995.
- Гроф 2002 — Гроф С. Холотропное сознание. М., 2002.
- Грязева, Петровский 1993 — Грязева В.А., Петровский В.А. Одаренные дети: экология творчества. М., 1993.
- Зинченко, Вергилес 1969 — Зинченко В.П., Вергилес Н.Ю. Формирование зрительного образа / Исследование деятельности зрительной системы. М, 1969.
- Дхаммапада 1991 — Дхаммапада. Перевод с пали, введение и комментарии В.Н. Топорова. Рига, 1991.
- Джампа Тинлей 1995 — Джампа Тинлей. Значений мантры Будды Шакьямуни «Ом Муни Муни Маха Муние Суха» // Байкал. Культурно-экологический журнал. Спецномер. Г. Улан-Удэ, 1995.
- Ело Ринпоче 2006 — Ело Ринпоче. Боевая чакра. Махаяноское преображение мышления. Комментарии к тексту Дхармаракшиты. Улан-Удэ, 2006.
- Дандарон 1997 — Дандарон Б.Д. Письма о буддийской этике. СПб., 1997.
- Карицкий 2002 — Карицкий И.Н. Теоретико-методологическое исследование социально-психологических практик. Москва-Челябинск, 2002.
- Козлов 2005 — Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. М., 2005.
- Козлов, Майков 2000 — Козлов В.В., Майков В.В. Основы трансперсональной психологии. Истоки, история, современное состояние. М., 2000.
- Коул 1997 — Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущего. М., 1997.
- Кучеренко, Петренко, Россохин 1998 — Кучеренко В.В., Петренко В.Ф., Россохин А.В. Измененные состояния сознания: психологический анализ // Вопросы психологии. 1998. № 3. с. 70—78.
- Кюльпе 1914 — Кюльпе О. Современная психология мышления // Новые идеи в философии. N 16. СПб., 1914.
- Леонтьев 1981 - Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1981.
- Лосский 1992 - Лосский Н. В. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. М., 1992.
- Луц, Михаэльс 2005 - Луц У., Михаэльс А. Иисус или Будда. Жизнь и учение в сравнении / Серия «Диалог» М., 2005.
- Леонтьев 1965 - Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1965.
- Лурия 1968 — Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. М., 1968.
- Минделл 2004 — Минделл А. Сновидение в бодрствовании. М., 2004.
- Моаканин 2004 — Моаканин Р. Психология Юнга и буддизм. М. -СПб., 2004.
- Ню Сэн-жу 1970 — Ню Сэн-жу. Путешествие в далекое прошлое / Танские новеллы (VII-IX вв.) М., 1970.
- Ньянапоника 1994 — Ньянапоника. Внимательность как средство духовного воспитания (буддийский метод сатипаттхана) / Медитация. М., 1994.
- Ожиганова 2004 — Ожиганова Г.В. История психологии: концептуальные подходы и методы исследования // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 3. с. 5—17.
- Ольденбург 1994 — Ольденбург С.Ф. Жизнь Будды. 2-е изд. Новосибирск, 1994.
- Палама 2005 — Палама Г. Триады в защиту священно-безмолвствующих. М., 2005.
- Петренко 2002 — Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. 2002. № 3, с. 113—121.
- Парибок, Эрман 2003 — Джатаки: избранные рассказы о прошлых жизнях Будды. Перевод и предисловие — Парибок А.В., Эрман В.Г. СПб., 2003.
- Петренко, Кучеренко, Вяльба 2006 — Петренко В.Ф., Кучеренко В.В., Вяльба Ю.А. Психосемантика измененных состояний сознания // Психологический журнал. 2006. № 5, с. 16—27.
- Петровский 1996 — Петровский В. А. Личность в психологии. Ростов-на-Дону, 1996.
- Психотерапия 1998 — Психотерапия и духовные практики. Подход Запада и Востока к лечебному процессу. Составитель В. Хохлов. Минск, 1998.
- Померанц, Миркина 2006 — Померанц Г.С, Миркина З.А. Великие религии мира. 3-е издание. М., 2006.
- Пятигорский 2004 — Пятигорский А.М. Непрекращающийся разговор. Лекции по буддийской философии. СПб., 2004.
- Райков 1992 — Райков В.Л. Гипноз и постгипнотическая инерция как модель исследования творчества // Психологический журнал. 1992. № 3.
- Розенберг 1991 — Розенберг О.О. Труды по буддизму. М., 1991.
- Рубинштейн 1935 — Рубинштейн С.Л. Краткие основы психологии. М., 1935.
- Рудой 1990 — Рудой В.И. Отечественная историко-философская школа буддологии: вклад в проблему научного истолкования буддийских философских текстов // Буддизм. Проблемы истории, культуры, современности. М., 1990.
- Субботский 1983 — Субботский Е.В. Нравственное развитие дошкольника // Вопросы психологии. 1983. № 4., с. 29—38.
- Торчинов 2005 — Торчинов Е.А. Введение в буддизм. СПб., 2005.
- Тулку Тондуб Ринпоче — Тулку Тондуб Ринпоче. Тайные учения Тибета: объяснение тибетской буддийской традиции терма. СПб., 2006.
- Хараш 1980 — Хараш А.У. Принцип деятельности в исследовании межличностного восприятия // Вопросы психологии. 1980. N 3.
- Хоружий 2000 — Хоружий С.С. Православная аскеза — ключ к новому видению человека. М., 2000.
- Цыбиков 1991 — Цыбиков Г.Ц. Избранные труды. В 2-х т. Новосибирск, 1991.
- Шестун 2006 — Шестун Е.В. Православные традиции духовно-нравственного становления личности (историко-теоретический аспект). Автореферат докторской диссертации. Казань, 2006.
- Шэток 1994 — Шэток И.Х. Опыт внимательности // Медитация. Практика буддийского метода духовного воспитания. М., 1994.
- Шкуратов 1997 — Шкуратов В.А. Историческая психология. М., 1997.
- Чоки Нима Ринпоче 2002 — Чоки Нима Ринпоче. Единство Махамудры и Дзогчена. Казань, 2002.
- Щербатской 1998 — Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988.
- Эриксон 2005 — Эриксон М. Мой голос останется с вами. М., 2005.
- Юнг 1997 — Юнг К.Г. Синхроничность. М., 1997.
- Ярбус 1965 — Ярбус А.Л. Роль движения глаз в процессе зрения М., 1965.
- Andresen, Forman 2000 — Cognitive Models and Spiritual Maps. Edited by Jensine Andresen and Robert K. C. Forman // Journal of Consciousness Studies. Special issue. Vol. 7. № 11 — 12, 2000.
- Varela, Shear 1999 — The view from within. First-person approaches to the study of consciousness. Edited by Francisco J. Varela and Jonathan Shear. Published in the UK Imprint Academic. UK 1999.
Сайт В.В. Кучеренко, 2016
